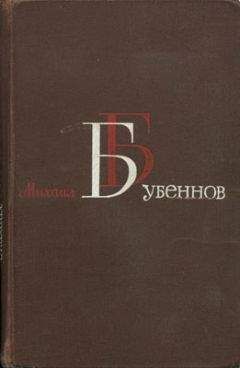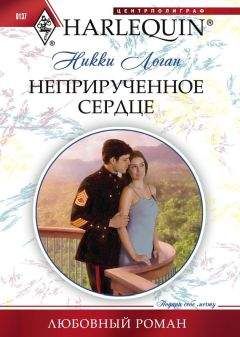Ольга Берггольц - Дневные звёзды
Так вот, индийская мудрость гласит, что человек должен пройти два пути в жизни: путь выступления и путь возврата. На пути выступления человек находится в тех своих личных границах, куда заключена часть единой жизни; человек живет главным образом только собой, живет корыстью чисто личной, жаждой «захвата», жаждой «брать» — для себя, для своего племени, для своего народа. На пути же возврата теряются границы его личного и общественного «я», кончается жажда «брать» и все более и более растет жажда «отдавать» — взятое у природы, у людей, у мира. Так сливается сознание и жизнь человека с единой Жизнью, с единым «я» — начинается его подлинное духовное существование.
Повторяю, я приблизительно излагаю изложенное другим, и это положение, эту мудрость на нашу — на мою — жизнь нельзя, конечно, наложить так, чтобы все точки их совпали.
И все-таки мне кажется, что головокружительно-счастливый и страшный путь мой в октябре 1941 года из-за Невской заставы, несмотря на все ощущение слитности с жизнью всеобщей, был все еще в какой-то мере «путем выступления», а вот путь от отца, когда главным желанием было отдать, как можно больше отдать согражданам и своей земле необходимых для ее дела сил и слов, — это, вероятно, было началом моего вступления на «путь возврата».
Нет, не прекратилась и не умерла во мне «жажда брать», даже от прошлого, но «жажда отдавать взятое» — преобладает.
Отдавать не только то, что ты взял, но отдавать преображенным в слове, прошедшим через душу, ставшем ее сущностью.
Об этом — только другими словами — говорила я в начале моих записей в главке «Дневные звезды» и на этом же обрываю их, как всегда неожиданно для себя… И, дочитав эти записи, некоторые могут спросить: «Да, в самом деле! Ведь ты обещала нам дневные звезды — где же они?»
На что я отвечаю: «Я раскрыла перед вами душу, как створки колодца, со всем его сумраком и светом. Загляните же в него! И если вы увидите хоть часть себя, хоть часть своего пути — значит, вы увидели дневные звезды, значит, они зажглись во мне, они будут все разгораться в Главной книге, которая всегда впереди, которую мы с вами пишем непрерывно и неустанно…»
1958
Доброе утро, люди?
«Наш Фриц умирает…»
И я вернулась в город и дошла до Радиокомитета. Около подъезда артист Иосиф Горин старательно наматывал на руку веревку, к которой были привязаны детские санки.
— На пожар, Ося?
— На пожар.
Три дня тому назад загорелся дом его сестры, где-то на Литейном, и Ося каждый день, как на работу, ходил на пожар, собирался медленно, обстоятельно и не торопясь.
Пожары у нас в Ленинграде в ту зиму были длительные, медленные, и тушить их было нечем — не было воды. Жители просто выносили из дому то, что были в силах вынести.
— Все еще горит?
— Да, третий этаж.
Мы немного помолчали.
— А что нового в Радиокомитете?
— Да все то же… Вот — наш Фриц умирает…
— Наш Фриц умирает? Не может быть!!
Я только вчера узнала о смерти тети Вари и старой няньки моей, Авдотьи, то есть о смерти части души своей, пасти жизни и детства, и уже, казалось, ничто не могло бы поразить меня больше. И все же известие, что наш Фриц умирает, поразило меня. Настолько облик Фрица и понятие смерти были несовместимы.
В иностранном отделе Радиокомитета, который занимался пропагандой на противника и который мы величественно именовали «отделом контрпропаганды», кроме начальника отдела Николая Верховского и помощника его Всеволода Римского-Корсакова, работали два немца, вернее — австрияка, братья Фриц и Эрнст. Эрнст был худенький, с глубоко сидящими глазами, почти миниатюрный, а Фриц был типичный довоенный литературный «фриц»: румяный, белокурый, голубоглазый, плотный и очень добродушный. Нередко по заданию этого отдела я писала короткие воззвания, обращенные к немцам, а Фриц или Эрнст наговаривали их на пластинку, и Сева Римский-Корсаков ездил с этими пластинками на передний край, к Ижорскому или Путиловскому заводу, и там их передавали через радиоузел так, чтобы слышал противник…
Я никогда не забуду один октябрьский вечер, когда уже голод властно входил в Ленинград, а немец штурмовал город и был на ближних подступах к Москве. Мы все впятером слушали передачу из штаб-квартиры Гитлера. Один из наших немцев стенографировал ее.
Сначала мы услышали ревущие фанфары: они даже не проревели — они прорычали какой-то грубый, наглый торжествующий марш. Сытый и в то же время жестяной голос произнес: «Сейчас будет говорить штаб-квартира фюрера». Потом слова пять минут ревели фанфары.
Мы сидели у приемника, сжав кулака, стиснув зубы. И вот после отвратительного рычания и марша фанфар сытый, самодовольный голос почти лениво произнес, что «под Москвой окружено и уничтожено несметное количество» наших войск, что дни большевистской столицы сочтены, а Ленинград тоже обречен.
И после этого сообщения вновь долго и грубо ревели, рычали, громыхали фанфары, и вдруг сразу, без паузы, страшный этот, дикий марш перешел в беспечный, мурлыкающий фокстрот.
Фокстрот следовал за фокстротом, и томное танго за танго, без остановки, пока в темном нашем городе, отрезанном от всей страны, стучал метроном. Он стучал учащенно, как напряженное сердце, — в городе шла воздушная тревога. А фашистский Берлин, разбойничий притон, веселился! Они отплясывали и ликовали потому, что реки крови пенились в России, горели тысячи русских деревень и на ленинградских улицах женщины и дети уже падали от голода.
И начальник отдела Николай Верховский сквозь зубы сказал:
— Ну… будет время… у них метроном и двух месяцев не простучит!
Сухонький Эрнст добавил:
— Меньше.
Фриц улыбнулся не свойственной ему недоброй улыбкой.
Потом мы занялись каждый своим делом…
А еще совсем недавно, накануне Нового года, вернее — накануне рождества, я получила задание написать передачу на противника именно в связи с наступающим рождеством… Я писала передачу-листовку в своей обледеневшей квартире, уже тяжело опухшая от голода. Я писала:
«Немецкий солдат, ты мерзнешь и голодаешь в своих окопах под Ленинградом. Но вспомни только, как еще недавно было уютно у тебя под рождество дома. Вспомни, как зажигалась елка и трещали дрова в печке… Неужели это навсегда ушло от тебя? Во имя чего?! Во имя чего ты стынешь под Ленинградом?.. Ты обмерзаешь, ты можешь стать калекой…»
И вдруг мысль о том, что ведь это все правда и что живые люди мерзнут в холодной земле под нашим городом, и мерзнут так же, как мерзну я сейчас, что они тоже люди, — пронзила меня. Я немедленно оттолкнула эту неправильную, ненужную мысль. Но все же эта мысль, вернее — даже ощущение, а не мысль, возвращалась ко мне, как бумеранг, за какие бы вернейшие лозунги ни забрасывала я ее, и с каждым разом все сильнее била по душе.
«Нет, это враги, а не люди», — сказала я себе и стала писать дальше: «Неужели же тебе не хочется вернуться к теплу и радости домашнего мирного очага…» О, хочется, хочется, мне — очень хочется! Я ведь помню и елку в детстве за Невской заставой, и недавние милые и веселые встречи Нового года в нашем электросиловском клубе, — о, где же это все, зачем оно отнято, где простая, мирная жизнь, как она обижена, как жестоко обижена…
«Что за вздор? Я запсиховала от голода, — сказала я себе шепотом. — Это враги, захватчики, интервенты, и только». Так что же, мне жалко их? Нет! Но мне жалко… Мне жалко нас. Мне жалко нас вместе, как нечто существовавшее когда-то в прекрасном человеческом единстве, как нечто живое, целое и вдруг беспощадно и бессмысленно рассеченное кем-то Третьим — не человеком, кем-то чуждым человечности. Да, этот кто-то Третий рассек нас, единого Человека, единое человечество, и бросил рассеченные половины друг на друга, чтобы мы терзали и ненавидели друг друга, и встал между нами. Одна половина единого Человека по злобной воле Третьего лишнего грызет, терзает и ненавидит другую половину. Вот этого Третьего лишнего я ненавижу всей силой души и жизни. Этот Третий — фашист. Он терзает меня, он разбомбил дом Фрица, и тот чудом спасся из-под бомб, и немцы Фриц и Эрнст голодают так же, как я. У них тот же враг, что у меня. Вот этот Третий лишний — фашизм, гитлеризм.
Нет большего преступления перед человеком и жизнью, чем преступление Третьего. И я написала передачу, вложив в нее всю личную, единственную, неповторимую жажду мира и счастья, и всю свою ненависть к фашистам, и желание елки.
«И если ты не повернешь своих пушек против Гитлера, немецкий солдат, ты не уйдешь из-под Ленинграда живым!»
Так заканчивалась листовка, и я дописывала ее на полном спокойствии души, убежденная в своей правоте. Наш фриц наговорил ее на пластинку, и Всеволод Римский-Корсаков отвез пластинку в сочельник на передний край — на Ижорский завод. Он вернулся закоченевший, но довольный: передавали с очень близкого расстояния — так что было слышно, как немцы поют у себя рождественские псалмы, но передачу, несомненно, слушали, потому что, когда она началась, псалмы умолкли и по нашему голосу не били.