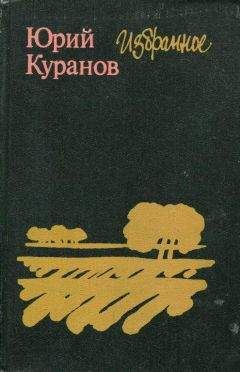Юрий Казаков - Избранное: Рассказы; Северный дневник
Летом над городом висит белесая пыль, которую поднимают несущиеся по большаку машины, стоит жара, часто дуют суховеи, река сияет, слепит глаза, а вечерами в степи полыхают сквозь мглисто-знойное марево долгие смугло-красные закаты. Летом машины к складу подходят с перегретыми моторами, с жаркими покрышками, а склад пахнет мылом, сосновыми досками, рогожей, бензином и сухой пылью.
Зимой все заносит снегом, по ночам наваливает на улицах сугробы, и утром лошади на них „как на печку лезут“. Город делается уютнее, чище, веселее. Скрипят, визжат на морозе сани, звенят цепями машины, на базарной площади по воскресеньям желто от конского навоза, черно от полушубков, красно от мясных туш. Зимой склад становится ниже, насупленней, запахи его на морозе приглушаются, снег заваливает здание почти до решетчатых фигурных окошек, и только к двум кованым низким и широким дверям расчищена и укатана машинами дорога.
Город древен и глух. Издавна селились тут раскольники, сектанты, беспоповцы, кулугуры, строили по лесам скиты один суровее, потаеннее другого, скрывались от мира, а в городе — запирались ставнями, замыкались в молельнях, навешивали на колодцы замки каленого железа. Издавна уезжали отсюда в Москву, в Петербург самые дремучие, самые дикие купцы, торговали там, ворочали делами, кутили, но у каждого был в городе дом, и умирать каждый возвращался в родное гнездо. И издавна ничего не строилось здесь, кроме церквей, и ничего не производилось, кроме чугунов, ложек да туесков. Город был азиатски дик, скучен, пылен и всеми забыт.
И до сих пор стучат здесь в колотушки по ночам, до сих пор хоронят стариков по старинному обряду, торчат на буграх громадные дикие колеса бездонных колодцев, вырытых чуть не при Юрии Долгоруком, до сих пор бегают бабы на базар, слушают, обмирая, пророчества Коли-дурачка — грязного, загорелого, гогочущего и плачущего...
Но двадцатью верстами ниже по реке началось в прошлом году строительство большой плотины, и день и ночь везут туда самосвалы камень из карьеров. А выше города за какие-нибудь десять лет вырос вдруг богатейший колхоз-гигант, и всё едут туда на „ЗИМах“ иностранцы и обязательно останавливаются в городе, обязательно вылезают, разминаясь, — в узких брюках, в больших ботах, в широких коротких пальто, в высоких шапках, — изумленно щелкают фотоаппаратами, иногда наскоро осматривают какую-нибудь ближнюю церковь, и на иностранцев уже не обращают внимания — привыкли.
2
В сторожке днем кладовщик в телогрейке и перчатках с отрезанными пальцами оформляет наряды, греются, курят шоферы районных автомашин. Стены вдоль лавок и самые лавки замаслены ими до блеска. В углу навалены горько пахнущие осиновые дрова, которые носит сюда сменщик ночного сторожа Тихона сухорукий Федор из слободы. Над столом прибита полка, на ней стоят банки с солью и чаем, лежат маслянистые черные гайки, гири от амбарных весов, начатые пачки махорки и папирос, которые забывают шоферы.
Потолок в сторожке закопчен, на полу сор, щепки — оба сторожа ленятся мести. Маленькая, обмазанная бурой глиной и невыбеленная печь громко гудит, чугунная плита малиново румяна, крошечное поддувало пылает жарким золотистым светом. Дверь сторожки в сильные морозы покрывается курчавым инеем по щелям, на окнах нарастает лед в два пальца толщиной. В оттепели с подоконников течет, пахнет сыростью и еще чем-то, чем пахнет обычно в нежилых помещениях, а дверь так забухает, что в нее нужно биться всем телом, чтобы открыть. В углу, возле двери, висит берданка с залапанным прикладом, потерявшим воронение стволом, заткнутым тряпкой от сырости. Иногда, от нечего делать, Тихон чистит ружье, вынимает патроны из магазина. Патроны набиты крупной дробью, желто маслятся, тяжелые, приятно холодят ладонь.
Тихон любит думать, сидя на чурбаке возле открытой топки, глядя в огонь. Крупное лицо его тогда неподвижно, зрачки сужаются, глаза светлеют. Мысли у него тяжелые, старческие, он много курит в эти минуты, курит до сердцебиения и тягуче сплевывает на яркие стреляющие угли.
В молодости был Тихон даже до странности силен и необычен. Работая грузчиком, редко, свободно шагая огромными ногами, таскал десятипудовые тюки. Необычен был, дик он и в поступках: так же, как и приземистые грузчики-татары с плоскими лицами и просвечивающими редкими усами, ел он сырое мясо. Покупал на бойне фунта два говядины, посыпав солью, рвал частыми белыми зубами, прижмуривая глаза, хрустел хрящами, пускал по бороде розовую слюну — жутко было тогда смотреть на него!
Всю молодость прожил он одиноко, замкнуто, не было у него друзей, никому не открывал он свою Душу, был постоянно молчалив и мрачен. Однажды он исчез из города и пропадал года два. Вернулся смуглый, с досиза выбритой головой, свалянной порыжевшей бородой, в шелковой восточной рубахе и разбитых сафьяновых сапогах. О том, как жил и что делал эти два года, никому не рассказывал — сказал только, что был в Персии. Долго после этого вставлял он в разговор резкие гортанные слова и смотрел на всех еще угрюмее и загадочней.
Любят у нас все необычное, сильное, мощное, — Тихона же не любили, а боялись и удивлялись ему. Слава его была необычайна, но слава — дикая, мрачная. Трезвый он не был ни страшен, ни особенно интересен, зато пьяный — был зловещ и неистощим на дикие, буйные поступки.
Пил он редко, но помногу и не пьянел, а дурел: ломались брови, тяжелел, бешеным, стеклянным становился взгляд. И пел, закидывая голову, прикрыв пушистыми ресницами воспаленные глаза, дрожа волосатым кадыком, никому не известные песни без слов и без мелодий. Вернее, не пел даже, а выл фальцетом, тогда как голос был у него низкий и гулкий.
Иногда, начав пить с утра, в полдень выходил он из кабака, сутулясь, поглядывая исподлобья на встречных, сунув руки в карманы грязных, плоско висевших сзади штанов, шел на базар. Поодаль за ним, нервно похохатывая, тянулись любопытные. На базаре Тихон молча, деловито, лиловея лицом, выдергивал коновязи, пугал всхрапывавших лошадей. Потом потный, с белыми дурными глазами, с зловещей шальной улыбкой подходил к какому-нибудь возу. „Ну што ты, што ты! — бормотал, бледнея, хозяин воза. — Слышь! Братцы, православные, да што же это!“ Тихон нагибался, брался за колесо, напрягал широкую, сутулую от тюков и мешков спину и перевертывал телегу вместе с лошадью. Вытирая о штаны запачканные дегтем ладони, задыхаясь, злобно оглядывал он сбежавшихся мужиков и шел обратно в кабак. „Дубина! Черт бешеной!“ — бормотали вслед ему. Громко кричать боялись.
Женился Тихон пьяным. На свадьбе он долго крепился, потея, под надсадное „горько!“ целовал жену, потом зарычал, выкатил налитые хмельной мутью глаза, двинул стол — и с грохотом, давя друг друга в сенях, выскочили на улицу пьяные гости. А ночью, топча сапогами гряды на огороде, подошли к дому, ударили колом, высадили раму в окне комнаты, где спал Тихон с молодой женой, засвистели и, треща плетнем, кинулись врассыпную. И всю ночь с ревом гонялся Тихон за кем-то по слободе.
Было у него потом двое детей, но оба умерли: один — мальчиком в холеру, другой — уже взрослым парнем: утонул, нырнув под баржу.
Старел Тихон тоже не так, как все: не сразу, не постепенно, а временами. В каких-нибудь полгода старел лет на пять, появлялись резкие морщины, ноги становились узловатее, кривее, бороду подбивало сединой. Потом лет десять ходил все такой же, а наступало время — опять седела борода, салился, лез волос.
Изредка вспоминалась ему Персия. Закрывал он тогда глаза — нестерпимо пекло белое солнце, шумел базар, горячо пахло пылью, нечистотами из узких темных переулков, синим дымом плыл, курился капающий на раскаленные угли бараний жир, в кофейнях сидели на вытертых коврах, жевали тугие лепешки, пили кофе, горько-зеленый чай, курили, скашивая желтоватые белки глаз, потом блестели копченые лица. А вечером жарко дышали нагретые за день старые стертые каменные плиты, мглился короткий нерусский закат, розовели на фиолетовом небе башни минаретов, тоскуя, горловым звуком рыдали, вопили муллы и падали, падали, прижимаясь лицами к пыльному камню, правоверные.
И, вспоминая все это, вспоминая еще темную маслянистую воду залива, запах корицы, ржавого железа, гулкую темноту пароходных трюмов, изумрудно-синюю громадность моря и пахнущую острым животным потом толпу грузчиков: персов, греков, армян, азербайджанцев, русских — крепко сжимал Тихон зубы, клал руку на сердце и думал с бессильной тоской: „Уехать бы!..“
Но бывали в жизни Тихона и милые и прекрасные минуты. Каждый год, недели за две до Петрова дня, доставал он из чулана давно уже отбитые, завернутые в мешковину косы, надевал новые, твердые, как черепок, лапти, брал котомку с хлебом и ехал наниматься косить.
Он забирался далеко, в места совершенно глухие, пойменно-черноземные и старообрядческие. И едва только устраивался на нижней железной гулкой палубе рядом с дровами, пахнущими лесом, оврагами, грибами, рядом с мерно вздыхающей, снующей стальными поршнями в желтом масле машиной, едва только ощущал частый лопот, шум и плеск плиц за бортом и дрожь быстроты, торопливости, как уходила на короткий срок, забывалась старая жизнь и больно, сладко манили, звали к себе бесконечные пыльные дороги, речные плесы, дремотные, знойно-пахучие опушки — все давным-давно знакомое, все родное с самого детства.

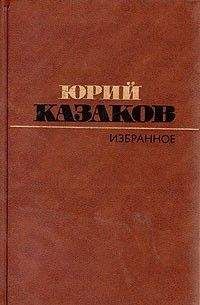
![Генрих Бёлль - Избранное [ Ирландский дневник; Бильярд в половине десятого; Глазами клоуна; Потерянная честь Катарины Блюм.Рассказы]](/uploads/posts/books/121756/121756.jpg)