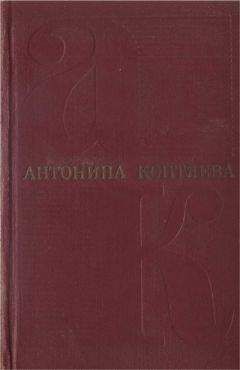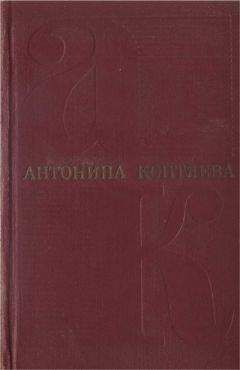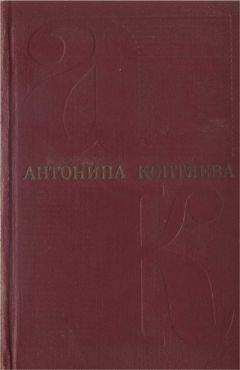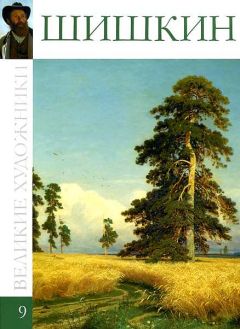Антонина Коптяева - Дерзание
Щуки и караси подпрыгивают, изгибаясь трепещутся в толстой сетке невода. Володя и гут готов помогать, но отец отстраняет его: щуку надо брать умеючи.
— Вот окунька хватай. Линя бери… Красавец какой попался!
В суматохе опрокинули ведро. Хорошо, что подоспела мама, не дала карасям уйти обратно в озеро. Но один успел допрыгать и поплыл, и Володя, застыв с маленькой щучкой в руках — взял-таки, хоть маленькую, но сам вынул из невода, — проследил, как обрадованный карась вилял куцым хвостиком, пока не исчез в прозрачной глубине.
— На тебе зато щуку! — торжественно сказал Володя матери.
Она стояла, словно большая девочка, в легоньком сарафане, босиком, с растрепанными на ветру светлыми волосами и, не обращая внимания на укусы комаров, внимательно смотрела вслед карасю. Ей тоже понравилось, как он удирал. Почувствовав это, Володя размахнулся и бросил свою хорошенькую щучку в озеро. Конечно, жаль было выпустить ее из рук, но хребет-то он не сумел ей переломить, а стоило ли показывать, что у него не вышло по-рыбацки?
— Пусть плывет! Вырастет и тогда поймает нашего карася.
Хитрющий рыбак и его уже не молоденькая мама с одинаковым интересом проследили, как, ошалев после всех приключений, метнулась щучка в воде направо, налево, а потом стремительно, точно серебряная игла, вкололась в черную водную глубь.
— Теперь на всех хватит, — сказал Тавров, опуская в воду садок-сетку, натянутую на проволочные круглые распорки, доверху набитую рыбой.
Логунов, уже в рубашке и брюках, но босиком, с подсученными до колен штанинами, сидел на корточках и с завидной ловкостью потрошил рыбу для ухи. Ольга чистила лук и прошлогоднюю картошку с подбялой, сморщенной кожицей, а Володя подтаскивал к костру хворост. Всем было весело, пока не заговорили о Коробовых.
— Отвези Наташу сам, дружище, — снова, настаивая на своем, сказал Платону Тавров. — Если ее положат в больницу, Ваня приедет попозже. Тяжело ему оставлять детей одних, да и Наташа из-за этого волнуется.
И каждому, даже Володе, примерещился расстроенный Ваня Коробов с двумя младенцами на руках.
— Нет, пусть Ваня проводит ее! — сказала Ольга решительно. — Девочек до приезда Платоновой бабушки мы возьмем к себе. С редакцией о работе договорюсь. Положить Наташу в больницу должен Коробов, ей тогда не страшно будет.
— Правильно, умница. — Тавров обнял сынишку и любовно посмотрел на жену.
— Почему ты так рассматриваешь меня? — не без лукавства спросила Ольга. — Некрасивая я стала, да?
Она чувствовала, как отяжелела теперь ее походка, как раздалась в толщину недавно стройная фигура. На смуглой, еще гладкой коже проступили темные пятна, особенно заметные на лбу и вокруг припухшего рта. Но все это не огорчало ее, а, наоборот, заставляло относиться к себе с горделивой бережностью.
— Подурнела, да? — весело переспросила Ольга, отводя с лица тыльной стороной грязной ладони пряди волос, которыми играл ветерок.
Тавров смотрел, улыбался и молчал.
— Что? — спросила она, неожиданно встревоженная, и выпрямилась, держа в руках нож и полу очищенную картофелину.
— Разве ты можешь подурнеть? Я только посмотрю на тебя, и мне уже весело. Даже, если ты сердишься и ругаешь нас, все равно радостно.
— Ах вот как! Тогда я буду почаще ругать тебя и… Володю тоже.
— А мне не весело, когда ты бранишься, — сказал мальчик. — Мне это вовсе не нравится.
— Надо слушаться…
— Не могу я всегда слушаться!
— Разве? — Ольга вспомнила, как отсаживала его от окна в машине, и снова почувствовала себя неправой в своем стремлении на каждом шагу одергивать и укрощать сына, но признаться в этом, конечно, не смогла и оттого сказала внушительно и даже надменно: — Взрослые лучше знают, как детям вести себя.
43
Наташа проснулась ночью с чувством большой тревоги. Ей приснился большой зал, она стояла на сцене со скрипкой, но смычок словно прилипал к струнам и рука наливалась свинцом. Было стыдно и страшно. Открыв глаза, она прислушалась. За стеной по-разбойничьи свистел ветер и шумели деревья от разгулявшейся бури. Однако этот шум не заглушал согласное дыхание девочек в детской кроватке, а еще ближе тихо дышал Иван. Легко лежала его большая рука на плече Наташи, казалось, он даже во сне оберегал покой семьи.
В комнате пахло отвратительной гарью. Конечно, это болезненное: вот онемели, одеревенели пальцы на правой руке и ноге.
«Только бы не паралич!» — с тоской подумала Наташа, перевертываясь на другой бок.
Все равно неудобно, зато исчез тошнотворный запах. Трудно уверить себя, что это просто так, галлюцинация обоняния.
Запах гари напомнил Наташе кошмарные дни Сталинградской обороны, убитую Лину Ланкову, исчезнувшую без следа мать, отца, погибшего через год вместе со своим катером от мины, всплывшей с волжского дна. И милый фельдшер Денис Антонович, и матрос Семен Нечаев выходили в воспоминаниях из того ада кромешного живые, улыбающиеся, разрывая душу печалью. Правда, в последнее время словно дымка какая-то затягивает прошлые события Наташиной жизни.
«Что же это со мной? Неужели оттого, что. контузило в Сталинграде?»
Точно в бреду видит Наташа, как бежит она в густом дыму среди грохота взрывов, прижимая к груди своих детишек. Сухо во рту, сердце колотится, готовое лопнуть от безумного бега. Вот она прыгнула и летит в огненную пропасть.
— Ой!
Подавленный стон жены сразу будит Коробова, он приподнимается, включает свет.
— Что, Наташ?
В ответ всхлипывание:
— Худо мне и страшно…
— Не бойся, ведь я тут. Поедем с тобой в Москву, к Ивану Ивановичу. Может быть, в институт Бурденко…
— Нет, лучше к Аржанову: я его знаю. Но дети-то как же?
— Останутся у Ольги Павловны. И бабушку из Сталинграда обещал пригласить Платон.
— Она ведь умерла! — с упреком напомнила Наташа.
— Он обещал свою… Егоровну. Она и сказки умеет рассказывать, и пироги печь, — говорит Коробов, сидя на кровати и бережно растирая онемевшие пальцы жены.
Трудно поверить, глядя на нее, что во время обороны Сталинграда она спасла не меньше трехсот человек. Не похоже на то, что недавно она была лучшей учительницей приисковой семилетки. Как могла такая тихая, точно пришибленная, женщина справляться с целой оравой неукротимых озорников? Однако сегодня эти озорники снова приходили, готовые помочь по хозяйству и повозиться с детишками своей Натальи Трофимовны. Ей было очень плохо, и Коробов тихонько выпроводил ребят. Приходящая домработница наводит в доме порядок, но только теперь, когда Наташа заболела, Коробов почувствовал, какая это прорва — домашнее хозяйство, понял, как много успевала сделать его жена за двадцать четыре часа.
Боязнь потерять дорогого человека гнетет его. В Москву! Скорее в Москву!
— Помнишь Володю Яблочкина? — спрашивает он Наташу. — Сталинградский дружок мой… Ему ногу оторвало, когда мы двинулись в наступление. Помнишь, ты его вытащила из-под огня? Ох, и жаркий был тот день!
Наташа кивает, но видно, что она не припомнила, о ком говорит Иван. Мало ли людей с оторванными руками и ногами вытащила она из-под огня! Все путается в ее больной голове.
Коробов делает вид, что не замечает этого.
— Поедем в Москву — прямо к Яблочкину. Может, у Яблочкина есть связь с Колей Оляпкиным. Ты не забыла нашего знатного пулеметчика? Интересно бы встретиться с боевыми дружками! Мы с Володей сидим, бывало, во время налета в укрытии и мечтаем, как поедем в Москву. Ты слушаешь меня, Наташа? Отправимся с тобой к Аржанову, полечишься, и все у нас снова будет хорошо.
«Будет ли?» — мелькает больно ранящая мысль.
44
В коридоре госпиталя Варю окликнула Лариса:
— Ну как, Вар… Варвара Васильевна, привыкаете?
— Втягиваюсь понемножечку.
Солнце светило сквозь чистые стекла высокого окна, блестело в зеленом глянце пальм и лимонов, смуглило лица больных, сидевших в креслах у стола, халат Ларисы под его лучами белел ослепительно. Веселое, по-летнему жгучее солнце! Всем тепло, но не всем весело под его лучами. Лариса отчего-то пасмурная, а у Вари радость так и рвется наружу.
— Сняла сейчас повязку Тане Бражниковой. Это девушка из колхоза, которая страдала косоглазием. Я ей сделала операцию. Такая смешная: пришла в перевязочную, а в кармане зеркальце. Посмотрелась — да как засмеется. Теперь, говорит, меня не будут звать Танька Косая. Теперь я замуж выйду.
Лариса слушала, смотрела на радостное лицо Вари и думала о том, что для нее самой период первоначального обогащения в работе уже'прошел, хотя и сейчас, решая новую задачу, она всегда волнуется, точно начинающий хирург. И еще она подумала:
«Счастливая Варя Громова! А кем была бы она без советской власти? Коров доила бы в дымной юрте и замораживала молоко в посуде, сделанной из навоза. В праздник, конечно, выпивала бы сотку спирта со своим мужем… Хотя почему я так думаю о Варе? Ведь и я, дочь рабочего-сталевара, не получила бы высшего образования. Неужели я от зависти к ее счастью…»