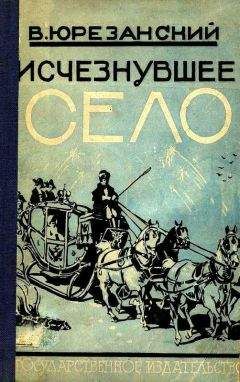Фока Бурлачук - Нержавеющий клинок
— Второе, говоришь? — переспросил Прокудин. — А надолго ли нам его хватит, этого второго? Как ты думаешь, Виталий? Ты больше нашего прожил, да и в партии состоишь.
— До Берлина даю гарантию, а там будет видно.
— Но ты забываешь, что и у фрица может открыться второе дыхание, — не сдавался Прокудин.
— Нет, браток, дудки! Он использовал свое второе дыхание, когда брал Севастополь и Одессу, а под Киевом оно закончилось.
Разговор прервала пулеметная очередь. Пули, как рой злых ос, прожужжали над танком, одна из них шлепнулась о его броню, издав звук, словно кто-то ударил кувалдой. Стреляли с нашего переднего края. Впереди танка, за редким, опаленным кустарником, где торчала груда кирпича, виднелся полуразрушенный погреб. Задорожный давненько присматривался к нему и теперь решительно заявил:
— Нас обнаружили. Здесь оставаться больше нельзя. Давайте по одному переползать к тому погребу.
— Вы туда, а я пойду на поиск боеприпасов. У нас их маловато, — сказал Прокудин и пополз к трупам немецких солдат.
Прокудин отличался необыкновенной смелостью и жгучей ненавистью к врагу. Война застала его на пограничной заставе у Перемышля. С первых дней она его изрядно потрепала, обожгла неудачей и потерей друзей. Два легких ранения как бы закалили его. Осенью сорок первого у него кончался срок службы, и, если бы не война, он возвратился бы в свою родную Тулу, к старому самовару, как любил шутить он сам. Прокудин мечтал стать слесарем-инструментальщиком, приобщиться к профессии отца, потомственного рабочего.
Вражеский труп, к которому подполз Прокудин, лежал вниз головою, широко раскинув руки, словно стремился захватить побольше земли. Снял с убитого подсумок с патронами, пошарил по карманам: в одном была пачка галет, в другом — два письма в конвертах. Потный, обвешанный боеприпасами, Прокудин опустился в сырой, полуразрушенный погреб, где пахло гнилой картошкой и чем-то приторно-кислым.
— Воздух здесь у вас тяжелый, — заметил Прокудин, выкладывая трофеи. — То на потом, — показал рукой на боеприпасы, — а это сейчас пригодится.
Достал пачку потертых галет, начал делить. Разведчики давно не ели и теперь почувствовали, что голодны. Неведомо откуда выбежала мышь, схватила упавший кусочек галеты и скрылась.
— Смотри, какая нахалка! — возмутился Прокудин.
— Фронтовая, обстрелянная, не сродни амбарной. Она как Гитлер. Тот почти всю Европу из-под рук народов выхватил, а теперь за русской земелькой подался, — запивая водой сухую галету, сказал Задорожный.
Прокудин протянул ему письма:
— Погляди-ка, Виталий, что там. Задорожный прочитал адрес на конвертах, сказал:
— Фридрих Матчке получил письмо, видимо, от своей зазнобы Маргариты Матчке из города Гамбурга.
— Вот, гад, откуда пришел, — не удержался Прокудин. — Ну, и что она ему пишет?
— Не торопись, тут почерк такой — что сам черт не разберет, — ответил Задорожный, вчитываясь в письмо. — Ага, вот послушайте: «Посылку получила. Мне очень понравилась шубка, а браслет великоват…»
Задорожный не дочитал: провизжала мина и, не разорвавшись, шлепнулась рядом с погребом, зарылась глубоко в землю, обрушив стену и придавив землей ноги Прокудину.
Прокудин чертыхнулся, разгреб руками землю, смахнул рукавом пот с лица и, ни к кому не обращаясь, сказал:
— Начинается. Хорошо, что мина своя, пожалела, а разорвись она — и всем нам компот.
Ему не ответили. Никому не хотелось умереть вот так глупо, без боя. Тем более теперь, когда свои рядом. Каждый понимал, что может случиться всякое, однако надеялся, что именно ему повезет. Задорожный собирался дочитать письмо, но тут же сунул его обратно в карман; со стороны нашего переднего края взлетели красные ракеты, а вслед за ним прочертили небо огненные стрелы «катюш». Заревели самолеты, заговорила артиллерия, началась атака. Загудела земля…
Из укрытий выползли танки противника, резко увеличивая скорость и поднимая густые столбы пыли, они ринулись навстречу атакующим. Один танк полз прямо на разведчиков. «Это мой», — подумал Прокудин и со связкой гранат двинулся ему навстречу.
— Стой! Назад! — крикнул Задорожный, но Прокудин уже сближался с танком. Ему казалось, что это тот самый танк, на гусеницах которого в июне сорок первого под Перемышлем он видел кровь своих товарищей. «Только бы не промахнуться… Нет, я не промахнусь, не имею права промахнуться», — твердил он себе. И когда уже казалось, что танк вот-вот раздавит его, Прокудин поднялся во весь рост и, размахнувшись, бросил под танк связку гранат.
Разъяренное черное чудовище простонало пулеметной очередью, попыталось развернуться на одной гусенице, будто собралось уйти с поля боя, и застыло на месте. Когда рассеялись дым и пыль, было видно, как бурые языки пламени ползли по его стальной спине. А из-за бугра медленно, словно нехотя поднимался яркий солнечный диск. В громовой буре войны, калечащей людей, рождался новый день.
«Не пройдешь, не пройдешь…» — повторял раненый, когда его несли в операционную.
— Фамилия, звание? — на ходу спросил хирург у медицинской сестры.
— Поступил без документов, в сознание не приходил.
— На стол!
Операция длилась долго. Закончив свое дело, хирург сложил вместе все осколки и уставшим голосом сказал:
— Столько металла в человеческом теле встречаю впервые. Сохраните, если выживет, отдадите ему. Может, когда-либо покажет своим детям и внукам как вещественное доказательство того, что сильный духом человек — крепче стали…
Медицинская сестра аккуратно завернула осколки в марлевую тряпочку.
— Доктор, а какую фамилию написать на его карточке? — спросила она.
Врач пристально посмотрел на сестру, словно что-то вспоминая, и спокойно ответил:
— Напишите просто: гвардеец.
И тут же, чтобы исключить всякое сомнение, добавил:
— Да, да, гвардеец!
Часовые сменились
В огромной ложбине, прикрываемой по утрам сизыми туманами, раскинулся старинный город, известный своим уникальным парком, сработанным еще руками крепостных много лет назад. Недалеко от него прижалась к роще воинская часть с длинными казармами, где в довоенные годы служило не одно поколение артиллеристов.
Погожим летним днем по булыжной мостовой из города в часть шел старик. В одной руке старик держал палку, в другой — маленькой чемоданчик. Дорога эта была ему хорошо знакома — в былые времена он проходил и проезжал по ней много раз. Давно это было. Здесь, в военном городке, он служил срочную службу. Отсюда ушел на войну.
Время от времени старик останавливался, вглядывался в знакомые места и не узнавал их. Справа и слева от дороги стелились поля. Теперь здесь стояли многоэтажные дома.
Щедро светило солнце, чистая прозрачная голубизна наполняла июльское небо. Старик часто снимал широкополую шляпу, вытирал вспотевший лоб, и легкий ветерок незаметно вплетал в его редкую седую шевелюру нежный тополиный пух. По дороге сновали грузовые и легковые автомобили, с шумом проскакивали мотоциклы.
Возле проходных ворот части старику показалось, будто он ощущает знакомый всем кавалеристам запах лошадиного пота. Артиллерия до войны была на конной тяге, и специфический запах постоянно стоял в казармах, командирских квартирах, клубах, — он никогда не исчезал. К нему легко привыкали и не замечали, но тот, кто появлялся здесь впервые, сразу ощущал это. Разумеется, старик знал, что ныне в полку другие «лошади», для которых не надо ни овса, ни сена. Да и орудия стали другими…
Занятый воспоминаниями, старик незаметно дошел до знакомой развилки, откуда полевая дорога уводила на полигон. Когда-то у этого поворота стояли высокие деревья, сейчас здесь осталась одинокая старая верба, корявая и скрипучая. Старый воин остановился возле нее прикурить, и ему послышалось, словно верба, помахивая ветками, проскрипела: «Ты вернулся». — «Да, я вернулся, а многие из тех, кто ушел со мной, не вернулись, — мысленно ответил старик, и перед его глазами воскресли лица тех, кто навсегда остался молодым».
Он будто прикоснулся к своей опаленной войной юности, к тому, что безвозвратно ушло…
Облокотившись на ствол вербы, старик глядел в сторону городка; ему казалось, что сейчас оттуда вылетит кавалькада оружейных упряжек, и вспотевшие лошади с грохотом пронесут артиллеристов на стрельбы. А впереди, как это бывало раньше, старшина Ласточкин с очередной шуткой: «Сержант Гаевой, вы не позабыли положить в свой ранец маршальский жезл?» Стройного, подтянутого, общительного старшину любили за веселый нрав, душевность и знание своего дела. Он никогда не раздражался, не повышал голоса. Если у кого-то из ребят что-то не получалось, он подбадривал их теплым словом, улыбкой и говорил: «Делай, как я». Всех, кто знал старшину, поражала его высокая работоспособность. Он везде успевал. В спортивных соревнованиях — первый, в самодеятельности — непревзойденный певец и гармонист. Казалось, нет такого, чего не умел бы старшина. В выходные дни вокруг него собирались красноармейцы, — лучшего рассказчика в полку не было. Знал старшина много забавных историй, рассказывал их с юмором, украшая неожиданными сравнениями.