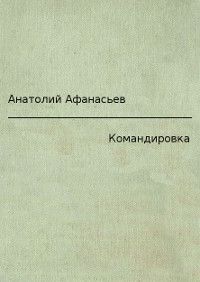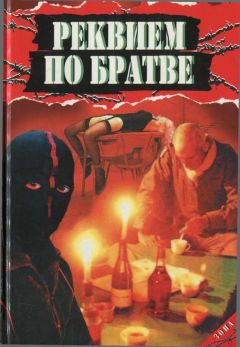Анатолий Афанасьев - Командировка
Страшная кара человеку — утоленное любопытство.
К Горжецкому (в моем списке номер шесть) идти было рядом, он работал на первом этаже. Человек с такой пышной актерской фамилией оказался тщедушным мужичком неопределенного возраста. Весь вид — птичий, несолидный, даром что давильщик. В комнате–мастерской, где он работал, было шумно, накурено и пахло газом. Шурочка из дверей показала мне пальчиком на Горжецкого и тут же отступила в коридор.
Увидев, что к нему приближается незнакомый человек, Горжецкий выскочил из–за стола с явным намерением скрыться.
— Я к вам, к вам, Эдуард Венедиктович, — окликнул я приветливо.
Он беспомощно оглянулся на своих товарищей, один из которых, багроволикий медведь в кожаном фартуке, неожиданно захохотал и ткнул его кулаком под ребра.
Я никак не мог уразуметь, в чем дело.
— Ну чего? — сказал Горжецкий капризно. — Чего надо–то, говорите.
— Я по делу, Эдуард Венедиктович!
Медведь в фартуке, заухав — у-ах, у-ах! — вторично ткнул его под ребра. И остальные, кто был в комнате, стали похохатывать. Неужели Капитанов подготовил мне такую встречу?
— А нету у меня делов с вами, — заявил Горжецкий. — Никаких делов не может быть вообще.
— Маленькое дельце! — я пальцами изобразил, какое маленькое дельце.
— У-ах! У-ах! — ухал кожаный фартук, начиная приседать. — Влип Эдик. Прижучили!
Горжецкий, полоснув меня ненавидящим взглядом, под громкий хохот комнаты, поскакал к двери. Я — за ним. Шурочка изучала стенную газету «Глобус мира». Горжецкий резко повернулся ко мне, прошипел:
— Ты чего, чего? Не мог конца смены дождаться? Приперло тебе, да? Приперло?!
— Приперло, — сказал я уныло. — Сроки поджимают.
— Т-сс! — он умоляюще прижал палец к губам и кивнул на Шурочку.
— Да что такое, в конце концов?! — не выдержал я. На повышение тона Горжецкий ответил спокойно и деловито.
— Ты учти, — сказал он, — я ей ни фига не должен. Это никакой суд не докажет! Я ушел — и кончено. В благородном смысле. Как люди. Черта ей лысого с меня взять… Зря только ходите. Так и передай. Финиш теперь. Я никого не боюсь. Пущай в суд подает, пущай. А я адвоката найму. На Горжецкого где сядешь, там и слезешь…
— Подождите, — перебил я. — Вы за кого меня принимаете?
Но Горжецкий увлекся, он уже не обращал внимания на Шурочку:
— Мало она меня помытарила, да? Сколь я истерпел, другому во сне не приснится. Какое низкое коварство! У меня две справки в наличии. От врача. В смысле нанесенных увечий. Могу выдать на предъявителя. Это ей мало? Ты спроси. И нечего ходить зазря. Черта лысого выходишь… А за такие угрозы запросто могу привлечь. Там люди тоже понимают. По справедливости… Хошь, четвертную дам? Больше ни гроша. Бери и уходи!
Горжецкий пошарил в кармане халата и извлек скомканный кулечек трешек и рублей, перевязанный белой ниткой, видимо заранее приготовленный. Я понял, что стал невольным свидетелем какой–то житейской драмы. Или комедии.
— Успокойтесь, Эдуард Венедиктович, — сказал я, отстраняя деньги и в свою очередь протягивая ему служебное удостоверение. — Я командированный, из Москвы. Зовут меня Виктор Андреевич. Вот мандат.
Горжецкий разглядывал удостоверение долго, несколько раз сверялся с фотографией. Лицо его прояснилось.
— Значит, ты не от Маньки?
— Я ее знать не знаю.
— А почему сразу не назвался?..
Я с сожалением развел руками.
— Шурка! — крикнул он Порецкой. — Из Москвы, что ли, правда, гражданин?
— Правда.
Внезапно Горжецкий пригнулся, как при артобстреле, и побежал к лифту, давая мне знаками понять, чтобы я следовал за ним. Я взглянул на Шурочку, она злорадно усмехалась. Горжецкого я обнаружил в укромном уголке вестибюля, за выступом у окна.
— Не хочу, чтобы слышали, — сообщил он, досадливо поджимая губы. — Она, зараза, до чего меня довела. Шизоидом скоро стану… И что характерно, везде у нее агенты. Видал в комнате бугая? Ее агент. Да, точно. Ты не сомневайся.
— По нему сразу видно, что агент.
— Такая гадина! — обрадовался Горжецкий. — В Москве, я слышал, восемь миллионов граждан, а и там такую не сыщешь. И не ищи. Я тебе говорю, ты верь. Горжецкий врать не умеет. Что было, то было. Жил с ней два года. Теперь — ша! Вчера подослала брательника — во-о, будка! — убийца. Думаешь, меня он испугал? Черта лысого! Горжецкий человек уступчивый, но не дави ему больную мозоль. Не надо. Голый по миру пойду, а с ней жить не стану. Шабаш! Как благородный человек. С ума спятить. Отравить хотела. Слышь, в водку подлила скипидару. Я выпил, ничего… Брательнику говорю — лучше в могиле живому гнить, чем с твоей сеструхой. И он понял.
— Эдуард Венедиктович, я к вам по поводу… Мне сказали, только вы можете сделать как надо.
Вернувшись в будничный мир с высот любовного экстаза, Горжецкий горестно поник.
— Чего?
— Приборчик, говорю. На вас вся надежда.
— Не надейся, парень. Зазря не надейся. Ко мне все подходили. Сам Капитанов уговаривал. Черта лысого. Я не бог. И никто не сделает. Потому что нет условий технологии. Ты Горжецкому верь, и он тебе всю душу откроет. Как благородный человек. Она сама себя делает — деталька эта.
— Не понимаю, Эдуард Венедиктович.
— То–то, что понять трудно. А вот пример. Привези ты в тундру лимон и посодь. Будет он расти? Не–ет. Потому что условия не годятся для роста. И шабаш. Сто лимонов посодь, пять вырастут. Почему? Тут тайна, которая доступна не нам.
— Теперь я вас вроде понял. Спасибо.
— Я ей сказал: еще раз мне пакость придумаешь — уйду насовсем. Что дальше? Берет она бидон с пивом и льет его в раковину. Оскорбление личности? Да. Льет и хохочет. Надо мной. Что я сижу с пустым стаканом. А я за этим пивом чуть в очереди не угорел. У меня давление — сто сорок на шестьдесят. Можно жить?
Горжецкий проводил меня по коридору до Шурочки. На прощанье посоветовал:
— Женщина — враг людского рода. Пусть у ней груди, мордафон, а в сердце — червь. Ты мне поверь, я постарше тебя. Никаких оков. Живи свободно, как парящий орел… Будет случай, заходи, товарищ.
— Непременно. Удачи вам, Эдуард Венедиктович.
Шурочка моя, озорной ребенок, давилась от смеха. Первый раз я видел, как она смеется от души, без остановки. В коридоре, в лифте. Волосы струятся, щеки горят, зубы щелкают. Маленькая чародейка! В лифте я схватил ее за плечи, чтобы привести в чувство, потряс слегка, и она не отстранилась. И в смеющихся очах ее отразилось то выражение, которое прямо противоположно растерянности. Оно общее у всех женщин, я видывал его и раньше. Чем реже его видишь, тем спокойнее жить.
— Такой смех не украшает молодую девушку, — сказал я.
— Какой?
— Будто тебя в муравейник посадили.
— Фи, как пошло! — это уже с оттенком торжества. Милая девушка, я давно, как опытный дворовый пес, не беру в рот отравленную приманку.
— Он что — известная тут у вас личность?
Шурочка, не отвечая и не мигая, смотрела на меня расширенными, потемневшими зрачками. На наше счастье, лифт остановился.
Капитанов встретил меня против ожидания любезно. Достал из сейфа чайник, стаканы, заварку. Сунул в чайник самодельный кипятильник — две припаянные друг к другу стальные пластинки. Как и в первый раз, я поразился несоответствию его богатырского облика с крохотным казенным кабинетиком. Его ловкие, собранные движения навевали мысли о просторе, земных дубравах, сереброструйных протоках.
— Что же это вы совсем пропали? — приветливо поинтересовался Капитанов. — Не нуждаетесь, значит, в нашей помощи?
Я ответил неопределенным жестом.
— Вижу, вижу, время зря не теряете. Ха–ха–ха!
Это намек на мою разукрашенную физию, на гульбу. Намек одобрительный: завидую, дескать, не скрою, завидую. Сам такой.
— Что–то я Шутова там не приметил, в комнате. Не заболел ли? — спросил я.
— Отпросился. С обеда отпросился. Подружились с ним?
— Хороший парень…
— Хороший парень что–то зашибать стал не в меру. Как талант, так и с вывихом. Не дает бог человеку просто талант, просто ум. Обязательно с нагрузкой. Вы замечали?
— Я об этом пока не думал.
Капитанов смотрел на меня все ласковее, все одобрительнее. Интересно, какой у него самого вывих? Лишь бы не склонность к членовредительству.
— Вам заварки побольше, поменьше?
— Все равно.
— В нашем климате чай — спасение. Берите стакан, вот сахар, прошу. Не стесняйтесь!
— Спасибо, спасибо!
От неприязни ко мне, изгадившей нашу первую встречу, не осталось и следа. Он ухаживал за мной, как за желанным, дорогим гостем.
— Не торопитесь, горячо. Осторожнее, Виктор Андреевич, обожжетесь!
Сам он пил кипяток большими глотками, как квас. После каждого глотка шумно и глубоко выдыхал.
В благолепном молчании, обмениваясь улыбками искренней приязни, мы чаевничали.
— Эх, хорошо! Вот уж истинно хорошо! — говорил он.
— Великий напиток! — вторил я. — Великий!
— Живая вода. Истинное слово, живая вода!