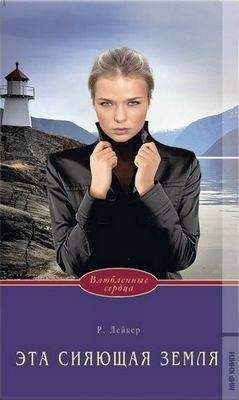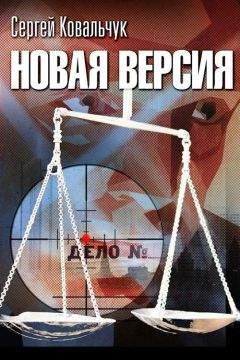Иван Кудинов - Сосны, освещенные солнцем
Иван Иванович укладывал жену, укрывал потеплее, успокаивал, как мог, но тревога и ему передавалась. Надо возвращаться в Петербург, не дожидаясь осени, говорил он, да и погода мало чему способствует, сыро и серо… Ну что ты, что ты, поспешно возражала Евгения Александровна, у тебя же столько было всяких планов! Если из-за меня, говорила она, то забудь и думать об этом. Работай. А это… мое состояние пройдет.
Она улыбалась сквозь слезы.
— Помнишь, когда родилась Лидочка, я вот так же себя чувствовала. Правда!.. Вот и сейчас такое… — Она подходила к кроватке, в которой спал четырехмесячный сын, поправляла одеяльце, и бледное лицо ее слегка розовело и становилось спокойным, словно в этом крохотном существе таилось нечто такое, что могло ее оградить от любой беды, вселяло в нее надежду. — Видишь? Он как две капли на тебя похож… Когда он вырастет, ты подаришь ему краски и кисти…
— И он измажет нам все стены.
— Пусть мажет. Скажи, Ваня, — вдруг она спросила, — у тебя какое к нему чувство… к сыну?
Шишкин внимательно посмотрел на жену.
— Знаешь, я пока не могу его отделять от тебя и все, что чувствую к тебе, как бы механически переносится на него. И наоборот: радуюсь его улыбке… и вдруг ловлю себя на том, что ищу отражение этой улыбки на твоем лице… Женечка, милая, ты успокойся, все будет хорошо, поверь мне.
Приходили Крамские. Софья Николаевна, медленно и плавно двигаясь по комнате (она была беременна), рассказывала какую-то веселую чепуху, желая отвлечь Женю от дурных мыслей. Федора Романовна, теща Крамского, делала какой-то сложный отвар и велела пить по полстакана перед едой. Снадобье было похоже на крепкий китайский чай с золотисто-коричневым отливом, полынно-горькое на вкус…
— Прошлую осень у меня вот так же было, — говорила Федора Романовна, — а попила этот отвар недели две — и все как рукой сняло. Дак мне уж, слава богу, за семьдесят, а ты, матушка моя, такая молоденькая… Скоко тебе? Поди и тридцати еще нет?..
— Двадцать четыре… Так ведь вот Федору нашему и того меньше, — тихо говорила Женя, опуская глаза. Ничто ее не могло успокоить. И только чуть забывалась она, когда была с детьми, наблюдала за их шумными играми — прятками, догонялками… Десятилетний Коля и восьмилетний Толя Крамские были во всем заводилами, выдумщиками, каких свет не видывал, а семилетняя их сестра Сонечка и трехлетняя дочь Шишкиных Лида, естественно, были у них «на подхвате». И во всем старались им подражать, копировали старших.
Наконец установилась ведренная погода. Евгении Александровне стало лучше — то ли снадобье Федоры Романовны оказало благотворное действие, то ли влияла перемена погоды. Шишкин тоже повеселел, ожил и каждое утро спешил в свои леса, ловил момент. Иногда ходили вдвоем с Крамским, и тот, посмеиваясь, шутил: «Боюсь, Иван Иванович, как бы вы меня в свою веру не обратили — сделаюсь пейзажистом». Но чаще он уходил в соседнее имение смотреть заброшенную барскую усадьбу. Задумал он что-то в этом духе… Нет, это скорее не приход нового хозяина в дом, а поминки по старому — все должно быть подчинено этой мысли, этому «идиллическому» настроению. Впрочем, только внешне «идиллическому», а внутри — созревший нарыв неизбежного социального поворота, а может, переворота… «Кудряво сказано? — посмеивался Крамской. — Но, в сущности, это так». И он, как никто, улавливал дух времени и по возможности старался так или иначе отразить его и выразить в своих картинах, даже в портретах. Но почему «даже»? Разве лицо современника не отражает дух своего времени — возьмите Кольцова или Грибоедова… Теперь они в галерее Третьякова. А Павел Михайлович, прознав о том, что Крамской живет по соседству с Ясной Поляной, умоляет его во что бы то ни стало сделать портрет Льва Николаевича. Нельзя откладывать на завтра, нельзя, потому что будет упущено время, то есть, иными словами, завтра Толстой будет уже не тот, что сегодня, а Третьякову нужен именно… сегодняшний Толстой. Павел Михайлович еще четыре года назад пытался заказать его портрет, просил Фета, близко знавшего Льва Николаевича, уговорить Толстого попозировать. Однако Толстой наотрез отказался. Теперь же случай был столь удобный, что не воспользоваться им было бы грешно.
«Сама судьба благоволит нашему предприятию, — пишет Треть-яков, — я только думал, как бы хорошо было Ивану Николаевичу проехать в Ясную Поляну, а вы уже там! Дай бог вам успеть! Хотя мало надежды имею, но прошу вас, сделайте одолжение для меня, употребите все ваше могущество, чтобы добыть этот портрет. Что Иван Иванович делает? Здорово ли ваше семейство?
…Васильеву выслал 300 рублей… известил, что в скором времени еще будут высланы деньги, но сумму не означил».
И буквально через несколько дней напоминает: «На портрет Толстого буду надеяться, ну а там, что бог даст!»
Но Крамской все еще не решается, медлит, откладывает «поход» в Ясную Поляну, до которой рукой подать…
«Меня теперь озабочивает разыскивание старой барской усадьбы, — сообщает он Третьякову. — Все, что до сих пор есть… меня не удовлетворяет, так как я решился делать этот сюжет в комнате, т. е. внутри, а не снаружи, то и нужны такие детали, которые могут быть в доме, где не жили около 20 лет. А где этакую штуку сыщешь!
…Шишкин, как всегда, работает много с натуры, картины же никакой не затевает. — И только в конце, как бы вскользь, ничего не обещая, обмолвился: — О портрете Толстого, разумеется, употреблю все старание…»
Однако еще около месяца выжидает, колеблется, ссылается на занятость другим делом — «барская усадьба» связала по рукам и ногам. Но мысль о встрече с Толстым преследует неотвязно, беспокойство овладевает: а ну как даст от ворот поворот, разговаривать не захочет? Говорят, характер у графа своенравный, что ж, и мы не лыком шиты… Иногда из Ясной Поляны приезжают на станцию кого-то встречать. Поезд стоит в Козловке две минуты. Крамской издали смотрит, отыскивая среди встречающих самого графа, стараясь угадать его по каким-то особым приметам — может, вон тот бородач, живо и весело разговаривающий с приехавшим господином?.. Нет, по виду это скорее кучер… Поезд, протяжно гуднув и окутав деревянный перрончик густыми клубами пара, тронулся и пошел, помчался дальше, наполняя окрестный лес веселым раскатистым гулом. Яснополянский экипаж, запряженный парой добрых гнедых коней, тоже трогается, проносится мимо, обдавая Крамского легким облачком пыли. Слышен смех, обрывки разговора…
— Не мучайтесь, Иван Николаевич, — говорит Шишкин, — отложите все свои дела и отправляйтесь в Ясную Поляну. Упустите случай, жалеть будете, никогда себе не простите…
— Да, вы правы, непростительно было бы упустить столь счастливый случай… да и просьба Третьякова. Пойду. На той неделе непременно.
Возвращаются вместе, идут не спеша вдоль полотна железной дороги. Слева лесное болото виднеется, гибельные топи, а справа, за увалом, ступенчато поднимается лес, тянется до самого горизонта, заслоняя собою все вокруг, и всякий раз утром, днем, вечером, в дождь и ведро, на всходе солнца и на закате он по-особому выглядит, никогда не бывает одинаковым… Шишкин говорит задумчиво:
— Какая тайна заключена в этом огромном пространстве!.. Сможет ли человек когда-нибудь все до конца понять или это немыслимо, невозможно? Вот хожу и думаю: как все это перенести на холст, с какого боку подступиться?..
— Все на холст не надо переносить, — язвительно замечает Крамской. — Краски — материал мертвый, если они не выражают радость или боль, страдание человеческой души… Попробуйте-ка улавливать, находить эти моменты, и вы почувствуете, какая силища таится в красках. Иной раз даже страшно бывает: а вдруг не совладаешь, не найдешь применения этой силе? Ну да вам-то бояться нечего, — засмеялся, глядя на могучую фигуру Шишкина. — Вам и не такое под силу. Завидую я вам, пейзажистам, у вас все ясно и определенно. А портретисты, вроде меня, люди несчастные, зависимые. Нет, нет, вот еще несколько заказов — и брошу неблагодарное это занятие, оставлю навсегда…
— Да ведь не бросите, — возражает Шишкин. — Привязаны вы к своему делу, душа не отпустит…
— Душа, душа, — сердится Крамской. — Душой тоже надо управлять. — Человек живет в постоянной борьбе, если он живет по-человечески. Но что это такое, борьба? Иногда главного своего противника я вижу в самом себе… да ведь так и есть: всю жизнь борешься с самим собой, отстаиваешь самого себя…
Савицкий к вечеру тоже возвращался, усталый, измученный обострившейся астмой. И откуда только силы берутся у человека?.. Константин Аполлонович загорелся идеей написать ремонтные работы на железной дороге и с утра до вечера пропадал теперь на станции среди землекопов — столько там, по его словам, причудливых фигур, разнообразнейших характеров.
— Представляете, — взволнованно говорит Савицкий, — это те же «бурлаки»… Посмотрите, какие лица!.. — И он быстро раскладывал на столе наброски, эскизы, этюды. — Посмотрите. Вот хотя бы этот старик в красной рубахе. Ушел из деревни, шестеро детей, жена… А этот мальчик… какие у него умные и печальные глаза. Что с ним станет? Нет, нет, грешно мне будет, если я не напишу своих «бурлаков»!..