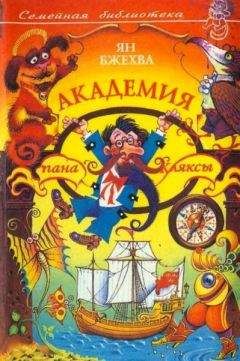Виктор Конецкий - Том 7. Эхо
Он привык к тому, что не принято в этой стране стрелять друг у друга трешку. Исключено. Начисто. Это и удивляло, и раздражало. Не принято забегать на огонек, о встречах условливаются за месяц, водки не пьют, пол-литра на троих для них смертельная доза, в метро место даме не уступают, и это галантные французы, где ж д'Артаньяны? Обнаружил только одного, бронзового, на памятнике Дюма-отцу. И вообще французы оказались куда замкнутее, куда прижимистее, чем он ожидал. И бесцеремоннее в то же время. Долго не мог привыкнуть к поцелуям на каждом шагу — в метро, в магазине, на улице остановятся, обнимутся ни с того ни с сего — и взасос…
Господи — подумалось мне на этом месте, — может быть, и наш Леонид Ильич Брежнев — француз?
— Ты вообще умел жить? Ну раньше, дома, в самые удачливые моменты?
— Здесь говорят «савуар вивр». Нет, не умел.
— Что читаешь?
— «Комсомолку» и Дюма.
— А из наших прозаиков?
— Один другого лучше! Воробьев, Кондратьев, Быков, Астафьев, Распутин. Распутину, как прочитал «Уроки французского», в Женеве это было, сразу посылку послал, анонимно. Альбом с живописью и кое-что вкусненькое: итальянские макароны и искусственные яблоки, очень косой был — вот искусственные и послал. Увидишь — скажи, что от меня. Теперь, верно, это уже ему не опасно будет. А что там у Астафьева с Эйдельманом?
— Оба — и Эйдельман и Астафьев — с жиру бесятся, как твои французы здесь. Ну, а кто из отщепенцев вернется, если позволят?
— Никто. Разве только Любимов. Он без актерского обожания и подхалимажа жить не может. А тут этого марафета не получишь. Ты хоронил Гаврилыча?
— А кто это?
— Иванов, «Солдат» ставил.
— Нет, не хоронил. Не было меня в Ленинграде. Да мы с ним и несколько разладились: очень уж дрянной фильм по моему рассказу поставил. Старость.
— Сколько сейчас Астафьеву?
— Шестьдесят три.
— Мальчишка. Его «Печальный детектив» я под подушку засунул, когда читать кончил. Еще совпадение у нас с ним роковое. Мой последний опус тоже печальный. Так и называется — «Маленькая печальная повесть».
— Подаришь?
— Нет, я же тебе другую книженцию приготовил. А с Астафьевым ты лично знаком?
— Да. Всего два месяца назад был у него в Овсянке под Красноярском. Пролетом из Игарки. Ты его рассказ «Ловля пескарей в Грузии» читал?
— Нет.
— Придется похвастаться. Рассказ начинается с литфондовского Дома творчества: «Когда в очередной раз меня поселили в комнате № 3 в конце темного сырого коридора, против нужника, возле которого маялись дни и ночи от запоров витии времен Каменского, Бурлюка, Маяковского, имеющие неизгладимый след в литературе, но выжитые из дома в казенное заведение неблагодарными детьми, Витя Конецкий, моряк, литератор, человек столь же ехидный, сколь и умный, заметил, что каждому русскому писателю надобно пожить против творческого сортира, чтобы он точно знал свое место в литературе». Этим высказыванием Виктора Петровича открылся последний съезд наших козлотуров. За «Ловлю пескарей в Грузии» баснописец Михалков на весь свет объявил Астафьева неинтеллигентным мужчиной. А кто у вас здесь самый талантливый?
— Талантливых, может быть, и много, а книг хороших нет. Одну назову — роман Сергея Довлатова.
— Аксенов?
— А ну их всех в…
— А твой шеф Максимов?
— Максимов? Я с ним в разрыве. Но прохиндей он идейный, и плохого, на радость тебе, о нем говорить не буду, хотя ни одного французского слова так и не впитал в свою башку. А «Континент» закатывается. Да и Владимов подсидел — хороший журнал в ФРГ делал. Хочешь, дам его телефон во Франкфурте? Позвони. Жоре сейчас плохо, боссы из НТС ему под дых дали — в дерьме на тротуаре кукует.
— Ну давай, — сказал я, хотя знал, что звонить не буду.
Он продиктовал: «1949612758-96».
— У тебя отличная память.
— Дерьмо, а не память. Просто утром звонил ему. Забавно: вчерашнюю встречу забываешь, а вот какого-то солдата Ютэн и лежавшего рядом с ним зуава помню, как будто вчера их видел. Оба они лежали в «Опиталь Станислас», где работала мама, один был ранен в ногу и позвоночник, другой в руку. И даже запах, исходивший от их гипса, я вспомнил, когда мне, в свою очередь, накладывали гипс в госпитале, в Баку. В Баку мне было уже тринадцать с чем-то, а тогда, когда видел зуава в Париже, четыре или пять.
— Позволь-ка спросить, откуда ты тогда знал, что это именно зуав? Он что, черный был?
— Почему черный?
— Мне кажется, что зуавы — это то же, что и спаги.
— Нет. Спаги — во французских колониальных войсках — кавалеристы из местного населения в Северной и Западной Африке. Зуавы же — части легкой пехоты и комплектовались не только из местных, но и французских добровольцев. А где ты слышал о спаги?
— От Пьера Лотти. Или от Пьера Бенуа.
— А откуда «сапер» — знаешь?
Конечно, я не знал.
— От французского «сапа», а «сапа» от итальянского «заппа» — заступ. Траншея, которая велась осаждающими, в то время когда они подступали к крепости ближе чем на оружейный выстрел. Ну а сапер — это тот, кто ведет сапу. Скажи, пожалуйста, можно ли нынче в Союзе свободно снимать ксерокопию?
— Сам не пробовал, но думаю, что нельзя.
— Понимаешь, самый первый номер «Зуава» сохранился у моего дружка в Ленинграде. Это наш мальчишеский рукописный журнал.
— Ну, — сказал я, — если твой дружок крупная шишка, то он, пожалуй, сможет его ксерокопировать.
— Ты понимаешь, какой это раритет! Очень хочется скорее получить.
— Скажи мне, кого там в Ленинграде надо подтолкнуть, — сказал я.
— Замнем для ясности, — сказал Некрасов. — А как твои издательские дела?
Я похвастался, что с будущего года должен выходить четырехтомник.
— Ну, до полного собрания вряд ли доживу, — сказал Некрасов. — А внуку через месяц двадцать. Звать — Вадик. Он в армии, но не сапер, и порядки здесь такие, что каждый уик-энд приезжает домой, вид сытый и довольный.
— Кто папа?
— Инженер-шахтостроитель, но работает сейчас в основном по линии переводов. Мама преподает русский в лицее. А вот что будет делать этот чертов Вадик после армии — не совсем понятно, так его в этак и перетак. Ни в отца, ни в деда не пошел — без книг свободно обходится. Но руки умелые. И вообще парень симпатичный. Есть девушка — француженка. К брачным узам только, подлец такой, что-то не очень стремится. Я, правда, тоже не стремился.
— На Новый год соленые грибы были у тебя?
— Постарайся понять, я не офранцузился, но парижанином стал… Седею что-то быстро. И болею. То что-то, то, как видишь, кашель, то еще какая-нибудь хреновина… Но, видишь, живу и даже пишу. Пишу не длинно, не утомительно — это главный грех всех нынешних писателей. Хвастаться нечем, но и жаловаться не буду. Про березки спрашивать будешь? Про мою тоску о них?
— Буду.
— Их тут полно. «Було» называются. А вот как — плакучая или кудрявая, не знаю. Может, ее-то и нет. Ну и хрен с ней. Зато… Что зато? Вика, дорогой мой Викуля, поверь мне, не мучает меня совесть. Ну вот нисколечко. Прозрачна и чиста, как слеза младенца.
«И все же — это уже наедине — он иногда спрашивал себя: стоило или не стоило? Нет, что стоило — это ясно, но насколько оправдались или не оправдались ожидания, как прошел процесс переселения из одной галактики в другую, одним словом, что такое эмиграция, понятие, которое всю жизнь пугало и казалось для нормального человека противоестественным? Шаляпин, Рахманинов, Бунин, Куприн, Михаил Чехов, всех и не перечислишь, — все они, каждый по-своему, тосковали по дому, по прошлому. Правда, в основном по тому, что было „сметено могучим ураганом“, даже по осуждаемому всеми приличными людьми самодержавию. Нынешние эмигранты в несколько другом положении. Мало кого тянет обратно. Уезжают — дети там или не дети, земля предков и всякое такое, а если в корень глянуть — от въевшейся во все поры советской власти. Осточертела голубушка. А кому и кое-что прищемили…»
— Ну, а если бы тебе предложили, вернулся? — спросил я. — Только, бога ради, не подумай, что я облечен какими бы то ни было полномочиями выяснить это.
— Нет, Вика. Сегодня у вас Горбачев…
Вот видите, что значит по памяти пытаться передавать диалог. Он сказал «у нас».
— Сегодня у нас Горбачев, а завтра опять Брежнев. Высадись где-нибудь в Коктебеле, допустим, отец и учитель, как в свое время Наполеон с Эльбы. Сто дней… Помнишь? Французские газеты писали вначале: «Узурпатор высадился в бухте такой-то», а через сколько-то там дней — «Его Императорское Величество вступает в Париж!» Солдаты, посланные Бурбонами задержать его, падали на колени, рыдали. Маршал Ней — тот самый, любимец, а потом враг — тут же перешел на его сторону. А Наполеон шел и выходил первым — «Стреляйте в своего императора!» Так вот, я боюсь, что, случись такое сейчас со Сталиным, окажись он живым, — допустим такую петрушку, — на руках внесли бы в Кремль. И опять меня на Крещатике, трезвого, спровоцируют в милицию, кинут там банок и еще хвост отправят в горком.