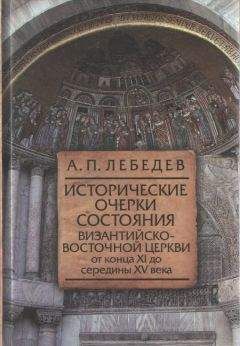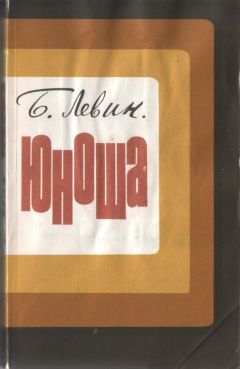Александр Морозов - Центр
Года полтора продлилось его общение с ребятишками из «капеллы», а затем он исчез с их горизонта. Когда же после примерно полугодового отсутствия он вновь появился как-то в предбаннике, то объяснился естественнейшим образом: «Квартиру дали отдельную. В новом районе. Наша коммуналка на снос пошла. Там теперь Дом Кино строят». Квартиру (однокомнатную и немалой площади — двадцать с лишним метров) дали ему в Чертанове. Правда, в самом его конце, почти у Окружной дороги, «до метро пилить и пилить», — неохотно бурчал Кюстрин, как и всегда неохотно, когда речь заходила о бытовых подробностях существования, тем более его собственного существования. Так тогда всё выяснили, а больше и не встречались.
Любимым словечком Кюстрина, вернее, словесной реакцией (на все) было: «И только-то?»
Кюстрин подошел к Диме и сразу (ну, конечно, поздоровались, поулыбались), как будто вчера виделись, сообщил, что на Богдана Хмельницкого, на углу с Петроверижским, выбросили отличное бутылочное пиво «Окацима». Польское, светлое, бутылочками емкостью но ноль тридцать три. «Я уж парочку выкушал. Отменный продукт», — озабоченно сообщил своим аккуратно-тоненьким тенорком и присовокупил, что народу пока мало, так что надо немедленно идти отовариваться еще раз.
В тот день Хмылов не пошел встречать Олю после работы, но в известном смысле приблизился к ней. Когда они, набив портфель Хмылова и авоську Кюстрина (маэстро всегда и неизменно имел при себе сеточку, аккуратно сложенную, аккуратно незаметную в кармане брюк) бутылочками по ноль тридцать три, зашли в первую же столовую и взяли по салату, то задержались там не на час. Через час они, правда, подошли к раздаче и взяли еще по порции вареных яиц под майонезом с зеленым луком. Причем Кюстрин брюзгливо заметил, что «лучок-с вяловат». Для Кюстрина обсуждение свежести (несвежести) лучка было не менее важным, чем все остальное. Иное дело Дмитрий Васильевич. Он говорил много, охотно жаловался, встретив наконец одного из своих (из почти своих). Он даже не жаловался, а просто рассказывал, что вот, мол, «ты представляешь, с того раза — ни разу. Да и где? Она вроде не прочь, отличный кадр, но все что-то ни то ни се». И весь этот его долгий и сумбурный, зато красочный рассказ — впрочем, без «тех самых» деталей, этого Хмылов не любил и не практиковал чисто от природы — весь этот его негомеровский эпос сам собою складывался в жалобу.
— Тебе что, деньги нужны? — задал Кюстрин вульгарно-бессмысленный вопрос, с сожалением оглядывая батарею пустых ноль тридцать три. Шибко прямой, а потому мало к чему обязывающий, вопрос этот привел все же Диму в состояние отмобилизованности. Потому что задан был ему второй раз за месяц, и причем людьми, на все сто незнакомыми друг с другом: сначала Олечкой Свентицкой, а теперь вот Кюстриным.
Тогда Кюстрин сказал, что надо идти в пивбар на Столешниковом. Они пошли, и Кюстрин познакомил там Диму с Аликом.
Алик сказал, что деньги у Димы будут, каждый вечер рубля по три-четыре. Иногда же по пять-шесть. Но для этого надо, чтобы Дима дал Алику сто рублей единоразово и не далее, чем завтра-послезавтра. А лучше бы и сразу. Если сразу даст, то они могут хоть через час идти к кассирше. Хмылов непонимающе посмотрел на Кюстрина. Кюстрин буркнул высокомерно: «Это, конечно, не деньги… В общем, смотри сам. С чего-то же надо начинать? Попасешься полгодика у Большака, а там как сумеешь. Это, конечно, не деньги, но для начала свой трояк иметь тоже неплохо. На пивко, на красненькое…» Его интонации напоминали озабоченно-деловитый тон героя современного «производственного» фильма, излагающего на свидании с невестой смелые идеи относительно бесперебойного снабжения электроэнергией далекого поселка. «Далекий поселок», то есть Дима Хмылов, сказал, что позвонит кое-куда насчет сотни, и выбрался из пиво-креветочного подземелья на свет божий.
Дима позвонил домой поговорить с Толиком на предмет, «где бы сотнягу…». Еще пару месяцев назад не стал бы, конечно, звонить, потому как не услышал бы ничего, кроме наглого хохота и веселеньких издевательств типа: «Да что ты говоришь?.. Сотню, говоришь, нужно? А чего так мало? Почему не тысячу?» Но за эти месяцы оброс Дима маленько минимальным финансовым жирком, пай, по крайней мере, в семью вносил (пока, правда, только в размере, адекватном собственному пропитанию). И не это даже главное. Засек Толяныч — по телефонным переговорам, что заимел братец некоего перспективного, шибко делового кадра Олю. Вначале даже — по первым Диминым разговорам — как-то изумился и оробел, почувствовав неожиданность и масштабы новой Диминой связи. Потом, узнав, что Оля — «всего лишь» секретарь-машинистка, подуспокоился, решив, что далеко все-таки Димке до его полета, до операции по осаде профессорской дочки. (Мелковато плавал Толяныч, не мог разобраться в новой иерархии и конъюнктуре, складывающейся вокруг.) Подуспокоился и держал теперь Диму за «выздоравливающего», за двинувшегося в том же направлении, что и он сам. Конечно, с отставанием (секретарь-машинистка — что там особенного может светить?), но в том же направлении.
Толи дома не было — это Диме сообщила героиня затянувшегося братнина романа Неля Ольшанская. Еще сообщила, что будет только через два часа. Дима позвонил Люде. Люда сказала: «Алё», и Дима повесил трубку. А почему? Тут проще всего сказать: просто взял да повесил. Ибо если перебирать связку моментальных не мыслей, а только еще их ростков, не оформленных в мозгу словом именно в силу их моментальности, то списочек придется выписывать некороткий. Взял да повесил. А потом еще и сигарету вытащил, прикурил, затянулся. Как будто дело сделал. Взять да повесить трубку, ничего не сказав в ответ на «алё», — вот такие дела делаются иногда на земле. А потом выясняется, что дела, да еще какие!
Дима снова позвонил к себе домой и спросил Нелю — очень просто и обыкновенно, — нет ли у нее ста рублей, нужно срочно, а отдаст быстро. Дальше все вообще пошло просто и обыкновенно. Неля сказала, что есть, договорились, что она подъедет к Долгорукому, а Дима даст ей свой ключ, чтобы она могла снова попасть в квартиру — дожидаться Толика. Она подъехала, он передал, спустился в бар, и из бара они вышли втроем: Кюстрин, Алик и Дима. Кюстрин, сделав свое дело, отвалил на сторону, а Дима с Аликом прошли к Большому театру, на встречу с кассиршей.
Пока шли, Алик обговаривал детали предстоящего разговора, которые Диму, как ни странно, занимали не очень. Он был несколько ошеломлен тем, что сделал: позвонил чужой женщине, спросил сто рублей, получил согласие, получил… господи, да все он получил, что надо! Чего же еще надо? И именно опьяняло то, что произошло все просто и обыкновенно. На мгновение, правда, перед тем как снова спуститься в бар, заколебался Хмылов: а не послать ли… в общем, куда-нибудь Алика, Кюстрина и три-четыре рубля в день и не использовать ли сотню, зажатую в кулаке, на все сто? Договориться с каким-нибудь частником, подкатить к Маттехснабу на «Жигулях» и со «школьным товарищем» за рулем и закатиться с Олечкой куда-нибудь в поднебесье, в шашлычно-цыганистую разлюли-малину. «Лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз»? Это как сказать. Но… превозмог.
Кассирша оказалась вовсе и не кассиршей, а какой-то то ли бывшей кассиршей Большого театра, то ли знакомой бывшей кассирши. Алик был занятным молодым человеком. Совсем еще молодым, но… с понятиями. Алик уходил в науку. И по этому случаю сдавал свое «дело» с рук на руки. Занятным он был потому, что уходил от дел, в то время, как Дима, чуть ли не в два раза старше его, только входил в курс «дела». Место определенно было удобное — Театральная площадь и вообще подходы к Большому театру. Нельзя было сказать, что это шибко доходное место, но гарантированное, устойчивое. И осложнений никаких вроде бы не предвиделось. «Кассирша» каждый день давала Алику за полчаса до начала спектакля от трех до шести сдвоенных билетов. Алик продавал их с рук, спрашивал «рупь» сверх номинала. Половину отдавал «кассирше», остальное оставлял себе. Вся операция занимала таким образом не более получаса в день и приносила устойчивый доход от ста до ста пятидесяти в месяц. Дима, естественно, поинтересовался, откуда «кассирша» знает, не запрашивает ли Алик больше, чем рупь, сверху. На что Алик ответил: «А я не запрашиваю. Если запросить больше, возникает напряженность у клиента, заминка некоторая. Кто-то дает, а кто-то вдруг и разблажится, что, мол, нет спасу от спекулянтов. А тут и представители закона прохаживаются… В общем, жадность фраера губит на корню. Это — запомни! Из-за копейки лишние хлопоты, напряженка». Потом посмотрел искоса на Диму и добавил: «К тому же она, наверное, и наверняка знает. У нее тут, вокруг театра, все свои. Легко могут подойти и послушать, сколько ты ломишь за тикеты».
Они остановились возле одной из скамеек около бездействующего фонтана, и Алик представил Диму аккуратно-смотрящей, мелко завитой старушке, одетой бедновато, но претенциозно. Алик сказал несколько веских фраз, старушка осторожно покивала головой, и «сдача дел» на том и закончилась. Затем они снова пошли к Первопечатнику (Дима уговорился с Кюстриным, что тот будет там ждать, Алику было «тоже в том направлении»). Занятный молодой человек этот Алик. Востроносый, жидковатый, с быстро стреляющими глазками. Но не в этом дело. Говорил каким-то безынтонационным голосом, роботоподобно. Говорил все правильно, толково, но выглядело так, что ничего это ему не интересно, смотрел не на собеседника, а себе под ноги, упорно вглядывался, словно чего-то там высматривая. Но опять же не в этом во всем было дело.