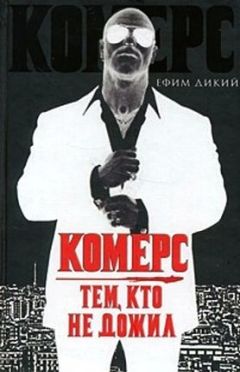Ефим Гринин - Золотые коронки
Впереди четыре фигурки! Ого, ребятишки! Что они делают тут? Еще недавно она не замечала детей, теперь не может пройти мимо. Трое мальчишек гомонят, приплясывая по щиколотку в воде. У одного — пугач; другой, черный, как цыганенок, размахивает дощечкой-саблей, у третьего, толстяка, — в руке обломок железной ограды — пика. Воинственные жесты, крики атакующих чапаевцев, звонкий, как пиццикато, смех.
Сверкают в воздухе брызги, сверкают на щеках четвертого крупные слезы. Зачем ты плачешь, выгоревшая головенка? Все хорошо в мире, не нужно слез! У тебя ручонки пустые, вот ты о чем горюешь! Малыш задирает рубашку, выпячивает животик, жалобно кричит:
— А у меня пупусик есть!
Мальчишки с хохотом тычут пальцами в круглый живот карапуза, опять сверкают светлые горошины на румяных щеках. Смешной малыш, пупусики есть у всех! Она с разбегу подхватывает мальчика, целует соленые щеки. Упругое тельце бьется на ее груди. Ты уже стесняешься, вот ты какой большой! А мне нужен совсем крошечный!
Не плачь, хороший, ты всю меня облил слезами, я отпущу тебя! Мальчик стремглав кидается к отбежавшим друзьям. А ноги снова пылают, это не песок, а жидкий огонь!..
— Ой, как горят ноги! — шепчет Галина, сплевывая что-то соленое, липкое.
Она очнулась в кромешной тьме бетонного подвала для угля рядом с котельной. Мокрое платье прилипло к телу. Но это не от слез малыша, нет, малыш — это бред, малыш — это голос из прошлого. И море оттуда. А откуда вода? И кровь во рту? И эта нестерпимая боль в ногах?
Сознание медленно возвращается к ней. Она приподнимает ногу, боже, как ужасно больно! Рука тянется к ступне и падает на живот: адская боль льется из поднятой ноги, заливает сердце, мозг, она снова впадает в забытье.
Потом из глубины памяти всплывает звучное чужое имя — Муций Сцевола. Зачем она вспомнила древнего римлянина? Ах, да, ему сожгли руку, а он молчал. Ей жгли ноги, но она не молчала. Она говорила, кричала, бесновалась, как кликуша. Она проклинала фон Крейца и его палача-фельдфебеля.
Ты не видел этого, не слышал, мой друг, мой брат по мукам, солдат-узбек! Я не забыла тебя, я видела твою стойкость, твою смерть. Меня никто не увидит, тут борются и умирают в одиночку. Ты притворялся и молчал, это был твой шанс на спасение. «Вы любите запах паленого мяса, фрейлейн?» — «Нет, герр оберст, я больше люблю духи Коти!»
Эта жирная мерзкая туша взбесилась. У меня нет надежды. Он требовал сказать, где барон. Я ответила, что барон поехал арестовать Рябинина. Фон Крейц чуть не лопнул от злости!
Как болит разбитый рот! Сначала били наверху, потом повели вниз… Куда меня бросили? Она ощупывает шероховатости цементного пола. Вот отчего словно гвозди в спине! Надо повернуться, но тело такое непослушное… Приподнимая голову, подворачивая ногу, она переваливается на бок и, пронзенная тысячами иголок, бессильно ударяется головой об пол…
Еще минута, две, три, она вытягивает руку. Откуда здесь парта? Хоть бы прислониться к ней… Она цепляется повыше, подтягивается, опирается боком, руки скользят по гладкой крышке… Что тут вырезано? Вэ, о, вэ, а… Вова! Тебя, конечно, отругали за это художество! Учителя всегда недовольны. Ее тоже ругали в школе за баловство. А в институте она дала себе слово не придираться к ученикам. Но не придется ребятам приветствовать, вставая за партами, учительницу Галину Григорьевну!
Слеза осторожно прокладывает дорожку к подбородку. Галина плачет беззвучно. Она хоронит свою мечту, свою молодость, свою жизнь. Эти слезы не облегчают, после них не будет ни смеха, ни радости, ни любви. Все на свете забывается. И Сеня забудет ее, и новая подруга пойдет с ним по жизни, и не Галину назовет мамой его сын. Даже могилы ее не отыщет Сеня, и никто не расскажет людям, как встретила она свой последний час…
И она плакала, не стыдясь ни слез, ни душевной слабости. Некому было пожалеть ее, и она сама жалела себя, но не прошлое, а будущее, которого не будет. Она сама избрала этот путь, она все знала заранее и ни в чем не раскаивалась. Но как ей одиноко, страшно, тяжело!
Ее терзала неизвестность. Только взрыв она услышала, только пламя пожара увидела, когда выбежала с фон Крейцем на улицу. А потом кто-то стрелял… А ее отрезали от мира. И она боялась за мужа и не знала, что начальник штаба армии отправил его в санбат.
Она беспокоилась о Викторе и партизанах и не знала, что Андрей вернулся в порт, а трупы Виктора и его товарища валяются возле бойни, потому что их запрещено хоронить.
Она тревожилась о матери и не знала, что Оксана Ивановна на квартире Фроловых в тихом Парковом переулке лежит на тюфячке в старческой бессоннице и, думая о ней, поправляет время от времени одеяло на осиротевшем Ваське Осетрове и его кудрявой приемной сестренке.
Она волновалась о Рябинине, которого спасла от барона, и не знала, что, получив ее записку, доктор ночью выдернул щит в подполе, и земля завалила радиоприемник, наборную кассу и ручную печатную машину, а потом, заперев дом, Рябинин с Тоней ушли из города в партизанский штаб.
Но больше всего она думала о своем мучителе, фон Крейце. Теперь спасенья нет, его и не могло быть. Но это был единственный выход. Она снова и снова перебирала в уме все свои действия, шаг за шагом, минуту за минутой. Все было правильно, она не сделала ошибки. Фон Крейц должен быть абсолютно уверен, что и взрыв в аппаратной, и исчезновение Павлюка и барона — все это случайная диверсия партизан и Рябинина, что она к этому непричастна. Только тогда приказ командования будет выполнен до конца, тогда ничто не остановит наступления… Сознание своей правоты облегчало ее, но она не знала, поверил ли ей фон Крейц, и оттого было так непереносимо плохо.
Да, тяжело человеку, если нет уверенности в последний час, что до конца сделано то, ради чего отдана жизнь, — тяжко и больно.
IIIМотоциклы ревут на больших оборотах, два спереди, два позади. Посредине открытый «оппель-адмирал». Рядом с шофером привалился к сиденью фон Крейц. За его спиной Зейцель, стоя с автоматом, то и дело оглядывается. В зеркальце у ветрового стекла ему видны красноватая склеротическая сетка на левой щеке оберста и темное припухшее веко. Кажется, герр оберст дремлет.
И шофер косится. Оберст в плохом настроении. Лишь бы не рассердить его! Эскортируемый мотоциклистами «оппель-адмирал» мчится к Энску. Полковник покачивается на сиденье, не открывая глаз. Ему противно смотреть на дорогу, на встречные машины с солдатами. За всю долгую службу у него не было таких черных дней. Эти неудачи обрушились на него как раз тогда, когда успех был обеспечен.
Шифровка Петерса буквально воскресила энергию генерала. На военном совете была согласована диспозиция. Полковник только что инспектировал линию обороны. Там ни на минуту не прекращаются работы. В квадраты Б6 и Б9 стянуты силы с остальных участков, вкопаны в землю тяжелые танки, саперы уплотнили минные поля и укрепляют дзоты и блиндажи, солдаты день и ночь долбят землю, углубляя траншеи и ходы сообщения. Взломать такие позиции одним штурмом нелегко.
Но полковник ничему не рад. Генерал ждет от него последней детали: на какое время назначена атака русских. Это позволит оттянуть людей в тыл на те полчаса, пока русская артиллерия будет молотить по переднему краю. Это избавит от страшных потерь, которых нечем восполнить. А потом нужно встретить русские танки и пехоту массированным огнем и утопить в крови их натиск.
Так предусмотрено диспозицией. Но полковника раздирают сомнения. Не страшно, если шифры и коды сгорели. Но если они пропали… В ставке фюрера такие вещи не прощают!
Не страшно, если взрыв — дело рук проклятого бургомистра и его шайки. Но если тут замешана русская контрразведка… Тогда диспозиция ни к дьяволу не годна, тогда все может полететь к чёрту!
Полковник снова и снова взвешивает все «за» и «против».
С одной стороны, воинский долг повелевает доложить генералу об этих сомнениях, информировать верховное командование о вероятности похищения шифров, чтобы принять срочные меры.
С другой стороны, зачем преждевременно рисковать карьерой, жизнью! Русские все равно могут прорвать оборону. Разве не пробили они линию Маннергейма — сплошной бетон и сталь! Фон Крейц инспектировал это чудо фортификации летом тридцать девятого года. В своем заключении генштабу он гарантировал неприступность Карельского перешейка.
С тех пор он не верит в существование непробиваемых укреплений. Но это его личное мнение, а если подать рапорт, тогда генерал в любом случае свалит на него всю ответственность, и никто не оградит фон Крейца от ярости фюрера! У фюрера злая память, он припомнит Кассандру!
Полковник подозрительно взглянул на шофера, Опасно даже думать о таких вещах на людях. Но эти мысли назойливы, как русские осенние мухи. Противник идет вперед почти по всей дуге Восточного фронта. Третья военная зима исчерпает ресурсы фатерланда. А если на западе проделают брешь!