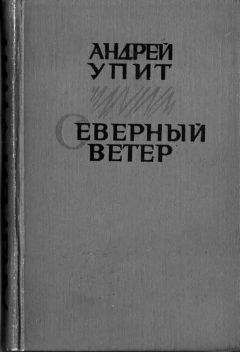Владимир Беляев - Старая крепость (роман). Книга вторая "Дом с привидениями"
— А тут брынза, дядько, — разворачивая бумагу, сказала Наталка и задела меня своей жесткой юбкой.
— Доберемся и до брынзы, — сказал Шершень, окуная ложку в кислое молоко. — Ох и холодное! Ты, случайно, жабу сюда не пустила?
— Да ну вас, дядько! Скажете тоже… — отмахнулась Наталка. — Разве можно такую гадость при еде вспоминать?
— Гадость? И совсем не гадость. Ты молодая еще и не знаешь, что во многих селах бабы нарочно в крынки жаб пускают.
— То выдумывают люди, — сказала Наталка.
— Ничего не выдумывают, — настаивал Шершень. — Я когда под Бендерами в одном именье у попа работал, моя хозяйка этим делом занималась. У нее в подвале в горшках с молоком всегда жабы плавали. Вот однажды жара была, пришел я домой. «Нет ли, говорю, хозяйка, чего-нибудь холодненького?» — «А чего ж, говорит, полезай в погреб и напейся молока холодного». Я и полез. Схватил первую попавшуюся крынку и давай пить. Залпом. И вот чувствую, как вместе с молоком что-то твердое мне в горло скользнуло, — я подумал сперва, что сметана так застыла, а потом, чувствую, шевелится. И пошла эта жаба гулять по моему животу. Как на ярмарке гуляла!..
Я рассмеялся, понимая, что Шершень шутит, а Наталка, откладывая ложку, сказала:
— Скажете такое, фу, и есть не хочется!
— Правда, правда! — даже не улыбаясь, продолжал выдумывать Шершень. — И послушай, что дальше было. Как раз перемена погоды ожидалась, дождь, словом. И тут, как ночь, так эта жаба у меня из живота голос подает. А хозяйка спать не может. А потом взяла да и сказала: «Перебирайся ты, Шершень, на другую квартиру, а я тебя держать не буду, беспокойный ты очень жилец». Я говорю: «Какой же я беспокойный, когда эта ваша собственная жаба во мне поет. Перемену погоды предвещает».
— Ну и что дальше было? — уже заинтересовавшись и сдерживая смех, спросила Наталка, поглядывая искоса на меня.
— Водкой я эту проклятую жабу уморил. И вот с той поры, как дают мне молоко, спрашиваю: «Жаб нет?» Если нет, ем спокойно. — И, как бы подтверждая свои слова, Шершень зачерпнул полную ложку кислого молока.
Не отставая от Шершня, я то и дело окунал ложку и заедал кислое ледяное молоко вкусным домашним хлебом. Скоро на вышитом полотенце осталась пустая миска да белый кусок брынзы. Мы втроем уничтожили целую буханку хлеба.
— Это ваша родственница, дядько? — спросил я у Шершня, когда мы, вскочив на коней, отъехали от Наталки.
— Она хозяйская дочка, — сказал Шершень. — Я у них столуюсь и ночую. А что — понравилась?
— А у вас разве своей хаты в селе нет? — спросил я, уходя от щекотливого разговора о Наталке.
— Своей хаты? — Шершень весело свистнул. — Нет пока у меня хаты, хлопче. Была у меня на той стороне хата, да жандармы в девятнадцатом году, как Хотинское восстание было, спалили.
— Вы тоже восставали?
— А то как же! Все тогда восставали. Видишь, я до революции все время в батраках работал. То у одного пана, то у другого. Под Бендерами работал в Цыганештах, даже у одного купца в Кишиневе конюхом четыре месяца прослужил. Ты видел, на той стороне против нашего совхоза село Атаки виднеется? Ну так вот, я сам из этого села родом. Заработал себе денег, все как полагается, и как раз перед самой войной приехал в село. Красивую жену взял, молодую, моложе меня на три года, с детства мы с ней знакомы были. И вот только построился, хату себе соорудил, виноградник развел, целую десятину батутой-нягрой засадил, — бах, бах — война, и меня берут до войска.
На Кавказском фронте служил, до самого Эрзерума дошел, а в революцию вернулся домой. «Ну, думаю, теперь не двинусь с места». Сын за это время вырос, четыре года хлопцу было, сейчас, если только жив, наверное, тебе ровесник.
— Да какое там — я девятьсот девятого года рождения! — обиделся я.
— Ну, не важно — большой хлопец, словом. И вот, понимаешь, только мы землю помещичью поделили, слышим — идут какие-то разговоры, что Бессарабию хотят румынские бояре себе забрать. И в самом деле, вскоре в наше село приезжает какой-то пан Радулеску из самого Букарешта, поселился у попа и — как это они с попом устроили, до сих пор не знаю — едет как бы депутатом от наших селян в Кишинев на Сфатул-Церий. Парламент ихний так называется. А никто этого Радулеску не выбирал, и даже многие крестьяне его в глаза не видели. И вот приходит в наше село газетка, и мы читаем, что делегат из села Атаки Радулеску требовал, чтобы Бессарабия соединилась со своим старым другом Румынией. А потом переворот, смотрим — жандармы пришли. И тут началось! Землю панскую отбирают, а тех, кому она досталась, — шомполами. Выпороли и меня. Виноградник молодой отняли.
Затаили мы злобу на румынских бояр — не передать. И вот, когда услышали, что в Хотине да по селам соседним народ бунтуется, все, кто победнее, тоже поднялись. Кто на лошади, кто пешком, кто с вилами, кто с дробовиком — айда к Хотину. Холодно было, помню, начало января, а я, как был, в суконной гимнастерке, схватил трехлинейку, ту, что с фронта привез, да и пошел в Хотин. Крепко мы дрались с боярами. Сколько их экономии пожгли, сколько жандармов под лед днестровский пустили — не рассказать, но вот беда: некому было помочь нам, не было среди нас такого вожака, как, скажем, Котовский, — он тогда с Петлюрой воевал и не мог к нам пробиться. Одиннадцать тысяч наших перебили жандармы, меня ранили под самым Хотином, около крепости. Видел ее? В ногу ранили из пулемета. Вот я и пополз ночью по льду, на эту сторону, — как только не замерз, не знаю. Ползу по льду, кровью снег раскрашиваю, и рядом товарищи мои раненые, тоже по одному, через лед на украинский берег перебираются. А боярские войска по нас вдогонку из орудий бьют. Крепко били — в одном месте от снарядов даже лед тронулся, как весной. Переполз я на эту сторону, а тут Петлюра тогда хозяйничал — то же самое, что румынские бояре. Когда жандармы ихние под Хотинской крепостью с нами расправлялись, петлюровцы из пулеметов с этого берега по повстанцам огонь вели.
Прятался я у одного дядьки, пока нога не зажила, а потом понял, что нельзя мне возвращаться в родное село. Знал, что убьют. Всех, кто подымался на бояр, румынские жандармы убивали. И еще мне передали, что хату мою жандармы дотла сожгли, землю, виноградник — все как есть у жены отняли и дали помещику новому, Григоренко. Так вот я и остался здесь, долю свою возле Днестра караулить. И все никак не могу из этого села уехать. Хлопцы знакомые в Баку нефть добывают, заработки, пишут, там богатые, зовут: приезжай, Шершень, — а я не могу. Все жду того часа, когда Бессарабию освобождать будем. У меня в Жванце начальник пограничный есть знакомый. Так я каждый раз, как за почтой для совхоза еду, все ему надоедаю. «Ну, когда же, говорю, на ту сторону? Смотрите, говорю, если тронетесь, обязательно меня берите. Проводником. Я те места хорошо знаю. Каждую тропинку, каждую канавку. Все исходил. Да и разговор кое с кем будет крупный. Смотрите, говорю, если перейдете границу без меня, поссоримся навеки!»
Начальник тот, хороший такой хлопец, Гусев по фамилии, из самой Москвы приехал, смеется и говорит: «Во-первых, говорит, границы-то никакой здесь нет, так что обязательно на той стороне рано или поздно придется побывать, это мы тут временно задержались. А лишь получим приказ, не забудем и тебя, Шершень».
— А про жену что-нибудь известно? — спросил я, выждав немного.
— В двадцать третьем году был у нас перебежчик с той стороны. Спалил пана и к нам прибежал. Мы тут, пока пограничники за ним пришли, побеседовали. Говорит, видел мою жену. Она после восстания у одного куркуля в батрачках служила, а потом жандармы выгнали ее из села туда, вглубь: видно, пронюхали, что я жив и в совхозе работаю… И вот уже сколько времени — ни весточки. А до двадцать второго года мы с ней перекликались даже. Я на бугре стану, возле воды, — знаешь, где лошадей совхозных купают? — а она на мельницу сойдет и будто бы на мостках белье стирает, а сама слушает, что я кричу, и откликается иногда. Один раз мы так перекликались и не заметили, что в кукурузе жандарм засел. Он послушал, послушал да как пустится к жене моей да нагайкой ее, нагайкой. Она белье бросила — поплыло все — и кричит от боли. А я бегаю по берегу, вижу, как этот гад мою жену мучит, и прямо зубами скриплю от злости. И как раз пограничник наш проходил. Я и стал, помню, просить: «Позычь, друже, карабина, я этого гада враз сниму». А пограничник мне и говорит: «Ничего, говорит, потерпи. Придет время — и снова будет твоя родная Бессарабия свободной».
Совсем близко, за полоской речного тумана, виднелся освещенный луной бессарабский берег. Шершень остановил Серого и глядел теперь туда жадными, полными тоски и гнева глазами.
Я понял, что всю свою жизнь он будет ждать той минуты, когда сможет перейти Днестр и ступить ногой на эту близкую и такую родную ему землю.
СТРАШНАЯ НОЧЬ