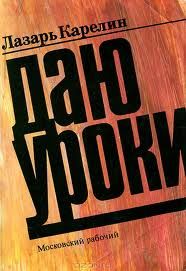Лазарь Карелин - Землетрясение. Головокружение
Едва вступишь в него, охватывала тишина. Едва взойдёшь на стёртые ступени дома, завладевали тобой запахи. Тишина — напоминающая, запахи — напоминающие. И дело тут было не в уюте, не в ласковости воспоминаний. Напротив, вспомниться могло и что‑то злое, тягостное. Дело было в том, что прошлое здесь не отошло, ты погружался в него, и память пронзительные воскрешала тебе картины то из детства, то из иной поры, то в Москве оставляя, то занося куда‑нибудь, где довелось живать, проездом быть, воевать. Вся старая городская Россия была тут — в этом тихом переулке, в этих от века запахах людского жилья. И вспоминалось и думалось в этой знакомой тишине порой очень зорко.
Леонид распахнул два небольших окна, отворил дверь в тёмный коридор — подуло чуть ветром. Опять тополиный горьковатый запах…
Леонид сел к столу. Круглый белый стол на резных ножках, У Леонида на этом столе громоздилась посуда, чайник закоптелый стоял и лежала стопа чистой бумаги. Леонид взял ручку, обмакнул её в чернильницу-невыливайку, придвинул к себе лист бумаги, задумавшись, склонился над ним. Подумал–подумал и начал писать: «Маша! Не удивляйтесь моему письму. Ведь мы друзья, верно? Ведь это я сговорил вас с Зоей ехать после ВГИКа в Ашхабад. Ну, так вот, мне показалось, что вы дружите с Бочковым. Маша, боюсь, что он не стоит вас». Нет, не то… «Боюсь, что вы обманываетесь в нём…» Снова не то! Леонид перечеркнул написанное. А откуда он взял, что донос написал Бочков? Почему именно Бочков, а не кто‑нибудь ещё? Надо разобраться, разобраться… Да, скорее всего, это сделал Бочков. Это похоже на него. Скверный, скользкий человечек, такой способен на все. И он, конечно, не простил Денисову выговора, и он, конечно, и друзей Денисова не жаловал расположением. Да, это он! Кто, как не он, мог и проникнуть в тайну Леонида, разнюхать все про Лену. Он такой, он из разнюхивающих. Боже мой, как могло случиться, что Маша доверилась ему, потянулась к нему? Бедная девочка, строгая, прямодушная, правдолюбивая, и вот… Бедная девочка, сирота, которой и посоветоваться не с кем. Мать у неё недавно умерла, отец сгинул в тридцать седьмом. Но почему, почему обязательно у неё с Бочковым что‑то уже серьёзное? А потому, что она бы не стала так с ним разговаривать тогда в просмотровом, так, как с близким человеком говорят. Не стала бы, если бы ничего не было. Все ясно, приласкал девчонку, пригрел, нарассказал ей кучу своих былей–небылиц, показал ей свои знаменитые аквариумы, которыми у него заставлена вся комната. До сотни всяких там у него пород рыб. Он с этими рыбами возится, это его страсть. Все ясно, девочка пришла к нему, увидела этих рыбок, увидела ещё громадную, пушистую овчарку Альму, согрелась в этом благополучии, понаслушалась этих рассказов, столь напомнивших ей, быть может, рассказы отца, и вот и придумала себе своего Бочкова, своего героя. Совсем не плюгавенького, совсем не неказистенького, совсем не подленького. Куда там! Её герой оказался и честен, и прям, и смел. Да и не так уж плюгав и стар. Чего не придумаешь о человеке, когда так тебе одиноко, а он тебе это одиночество взял да и развеял волшебной палочкой. И рыбки вокруг, и тепло, и сытно, и овчарка Альма кладёт тебе добрую морду на колени. Эти девчонки, Маша и Зоя, приехавшие на студию прямо из института, всегда нуждались, всегда им не хватало зарплаты. Не умели они вести хозяйство, рассчитывать деньги. Им помогали все, кто мог. Но как помогали? От случая к случаю. А Бочков взял над ними шефство. Все ясно, это не новость какая‑нибудь, такое вот завоевание молодой души человеком старым и недостойным. Да Бочков, кажется, уже и не раз так женился. И всякий раз недолог был его брак — очередная жена сбегала от него. Да, сбегали, может быть, сбежит и Маша. Но та ли это будет Маша, какой он взял её? Нет, не та, не с тем светом в глазах.
Леонид придвинул новый лист бумаги, быстро начал писать. «Маша! Не удивляйтесь моему письму…» И снова перечеркнул крест–накрест написанное. О чём он станет говорить? Смеет ли он вторгаться в чужую судьбу, да ещё к тому же ничего наверняка не зная? Не смеет! И уж по крайней мере не в письме начинать такой разговор. Вот вернётся он в Ашхабад, вот тогда и состоится у них разговор. А не поздно будет?..
Леонид взял новый лист бумаги, задумался над ним. Как все просто: лист бумаги, чернильница, ручка, и ты один в комнате, и тихо кругом. Пиши! А о чём? Ты отвык писать, ты отбился от этого дела, во имя которого и в институт поступал, во имя которого, думалось тебе, и живёшь на свете. Ты пишешь уже дта года все чепуху какую‑то. Ты заключения по сценариям пишешь, ты докладные о работе отдела пишешь, ты, наконец, какие‑то халтурки тачаешь — рецензию, очерк, дикторский текст. А настоящего, своего, пережитого, писательского — этого ты и не пытаешься писать. Два года выброшены в никуда. И нет и сценариев, на которые ты строчил заключения, их и не будет. Они будут, они даже есть, но их нет, они всего лишь бумажные стопы, переплетённые и занумерованные. Вариант пятый, вариант десятый. Сценария нет, если нет по нему фильма, а фильмов не будет. Так что же, уйти? Подать заявление об уходе? Куда уйти? Из кино уйти? Совсем? Уйти, бросить то, что любишь, чему учился? Из кино добровольно не уходят. Нет, не уходят!
Леонид встал, схватил чайник, чтобы занять себя чем‑то, и пошёл на кухню. Долго там разжигал примус, так накачав его, что примус вот–вот должен был взорваться. Ну и пусть, ну и взрывайся!
Потом Леонид пошёл в ванную. Хороша ванная! Пол под умывальником провалился, дыра кое‑как прикрыта досками. И нигде, ни на кухне, ни в ванной, нет электрических лампочек. Хороша квартира!
Леонид вернулся в кухню, погасил осатаневший примус, взял чайник, прихватив обгоревшую ручку носовым платком, и пошёл по тёмному захламлённому коридору, ориентируясь на тусклое пятно света, выбивавшееся сквозь дверную щель из его комнаты.
Зазвонил телефон. Чудо–телефон! С отсыревшим, похоронным, придышливым звоном. Леонид перенёс чайник из правой руки в левую и снял трубку.
— Лёня, ты?! Ленечка, ты?! — Это звонил Птицин.
Ну что ему понадобилось? И пьяный голос. Пить будет звать? Не пойду!
— Да, я.
— Лёня, слушай, друг ты мой золотой, слушай!.. Лёня, только что примчался Бурцев!.. Лёня, Ленечка, Сталин смотрел наш фильм!.. Слушай, Лёня, он ему понравился! Сталину–у! Он сказал, Лёня, про наш фильм, что это «солнечный фильм». Это его слова! «Солнечный фильм» — его слова! Приезжай! —Птицин повесил трубку, спеша обзвонить всех прочих. А Леонид поставил чайник на пол и сел рядом с ним, не чувствуя, что обжигается об его бок. «Вот оно — чудо!»
Часть третья
ОДИННАДЦАТЬ СЕКУНД
Денисов пробыл месяца полтора в Ашхабаде и вновь прилетел в Москву, прихватив с собой Володю Птицина. В Ашхабаде Денисов сдавал фильм местному руководству. Фильм понравился. А интересно, как бы он мог не понравиться? Уже появились в газетах первые отзывы о нём. Писали разное, отметки фильму выставляли от тройки до пятёрки, но не было статьи, где бы не утверждалось, что это «солнечный фильм», что он пронизан солнцем.
Нового сценария для художественного фильма у студии ещё не было, сценарии ещё доводились до нужной кондиции, но студия не простаивала. Там начали снимать фильм–концерт. С этим сладилось легко. Сценарий концерта утверждался чуть ли не заглазно, под честное слово Бурцева. Старик нынче ходил в именинниках, и ему этот концерт просто–напросто подарили.
Денисов прилетел для забот радостных. Он прилетел утверждать смету фильма–концерта. Он прилетел, чтобы утрясти все вопросы и о представлении «солнечного фильма» к Сталинской премии. Прилетел, дабы собрать для студии жатву успеха.
Даже Володе Птицину перепало от этого урожая. Его вновь делали директором съёмочной группы, той самой, что начинала снимать концерт. И он приоделся, подобрался, чуть–чуть стал важничать. Но был ли он счастлив? Блеклые его глаза всё время куда‑то убегали, во что‑то всматривались, слепо глядя на собеседника. Он суетился, важничал, шутил, но глаза у него были в неустанной тревоге. И они у него в иной цвет перекрасились, они выжелтились.
Причудливы узоры успеха. Тот самый Геннадий Николаевич, которого Леонид едва не ударил, тот самый марсианин–сплетник из министерских коридоров, сидел сейчас в компании Денисова, Птицина, Галя за ресторанным столиком, закадычным их прикидываясь дружком.
Заскочили в ресторан «Асторию», что совсем рядом с министерством, на полчасика, обмывая утверждение Птицина в ранге директора картины. Ну кто бы мог подумать, что Птицин, которого с треском сняли с прошлой картины, теперь опять станет директором? А он стал. Что ни говори, хорошая это штука — удача. И не нужно, не хочется, да и не нужно ломать голову, заслужена ли она. Удача так редка, что безбожно раздумывать, как она человеку досталась.