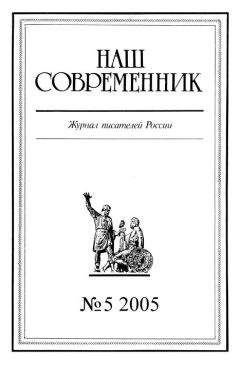Журнал «Юность» - zhurnal_Yunost_Zhurnal_Yunost_1973-1
Воздух все продолжал поступать, но связи не было. Телефон молчал в этой черной пустоте, как молчала сама черная пустота. С каким наслаждением услышал бы сейчас Баглей хрипение в телефонной трубке, простуженный голос Глотова, даже матерщину!..
Однажды его уже заваливало, в войну, когда они поднимали поврежденную «малютку», а какой-то отчаянный фашист, заметив с воздуха пятно под водой, швырнул на всякий случай глубинную бомбу.
С тех пор Баглей твердо взял себе за правило откапываться сразу же, пока грунт не осел, пока перед тобой, быть может, ещё только тоненькая стенка, легко поддающаяся инструменту или даже голым рукам…
Он нагнулся за ломиком и нащупал возле своих ног скользкую резину скафандра. Руки быстро определили в темноте направление и побежали, ощупывая тело. Пояс с грузами… Манишка… Котелок шлёма… Целы! Иллюминаторы целы! Теперь руки побежали вниз, к ботам Еремина, больше всего боясь наткнуться на перебитый шланг или заваленные грунтом ноги. Нет, всё в порядке… Но почему он не встает? Почему он не встает?! И старый Баглей выругался от обиды и злости.
Он нашёл руку Еремина и сжал её. Рука слабо шевельнулась в ответ. Тогда он опустился рядом с Ерёминым и прислонил свой шлём к шлему напарника.
— Ерёмин, ты живой?! Ерёмин?! — заорал он.
— Живо… — глухо донеслось из-под шлема. — Удуху… удуху…
— Ты чего, чего?! — затряс его Баглей.
— Удуху… удуху… хаю… — забормотал Ерёмин снова. И старый Баглей перевел себе: «Воздуху! Воздуху! Задыхаюсь!»
Он пополз вдоль распростёртого тела Еремина туда, куда вела змея воздушного шланга. И ткнулся головой в стену. Рукам удалось продвинуться чуть дальше тела. Ровно настолько, чтобы нащупать сплюснутый, безжизненный шланг. Воздух, конечно, шёл, не мог не идти, потому что там, наверху, умная автоматика поняла: что-то случилось, — и качала вовсю. Но громадному Еремину этой мизерной порции, поступавшей через сплющенный до щёлочки шланг на глубину, где воздуха требовалось гораздо больше, явно не хватало и на четверть одного лёгкого.
— Еремин, ты годи, годи трошки! — заорал ему Баглей. — Я сейчас… Я сейчас, слухаешь?!
Он пошарил в воде и выпростал из-под огромного тела Еремина ломик. С рыком, злостью и отвагой набросился Баглей на вставшую перед ним стену, стремясь во что бы то ни стало выбраться, выбраться как можно скорее. Так вот оно как вышло: две ниточки соединяли их с остальным миром, две ниточки: кабель-сигнал и шланг-воздушка. И каждому осталось по одной. По ниточке на каждого. Егото ниточка ведет к жизни, а вот Еремина…
Время от времени он нагибался, проверял Еремина— живой ли, не завалило ли — и принимался снова копать.
Связи с ним всё не было. Скоро ли придет помощь, он не знал. Пока там, наверху, поймут, что это не временный перебой связи, пока очухаются, пока оденут и спустят людей, пока откопают, — в том, что откопают, Баглей не сомневался, — Ерёмин будет уже мертв…
Здоровяк Еремин будет мертв… Сероглазый, с веселой и спокойной улыбкой, будет мертв… Нет, не будет мёртв! Нет, не будет мёртв! Не будет, не будет, не будет мёртв!
Значит, всё-таки горе-спецы когда-то напортачили, проводя здесь дноуглубительные работы. Вот он когда сказался подмыв-то, вот когда!..
«А ведь Ерёмин—ровесник с моим, — вне всякой связи внезапно подумал Баглей. — Лёшке тоже двадцать пять было…» И в каком-то исступлении он снова бросился на штурм. Он шел в атаку на эти мертвые, равнодушные камни, которых нельзя было убедить сдаться или отступить, а можно было только победить!.. Нужно было только победить!..
Но он уже изрядно вымотался за день и скоро понял: сейчас ему не справиться с врагом, не сло-мить стену этой одиночки на двоих. Баглей разжал руку, и ломик безвольно лег к его ногам.
Баглей нагнулся к сменщику. Ерёмин лежал недвижно, он стравил из рубахи почти весь воздух, она обмякла и сейчас в темноте на ощупь, показалась Баглею скользкой кожей какого-то доисторического животного, из тех, что Лёшка как-то показывал ему в книжке.
Он взял руку Еремина, но теперь рука не ответила на пожатие. Он сжал её ещё раз, поэнергичнее.
Рука вяло шевельнулась. Жизнь ещё теплилась в богатырском теле, сознание жило. Славу богу, что мелководье, мог бы и обжим приключиться. Так бы и сплюснуло…
«А ведь у него лялька!» — обожгло Баглея. На днях Еремин с неизменной своей улыбкой показывал всем фотографию: лукавая, востроглазая мордашка с оттопыренными ушами. И сразу Баглей вспомнил невестку: как сидела на чемодане, уезжая от них навсегда. И себя, нерешительно бормочущего в усы: «Мабуть, ещё скольки поживешь? А то и навовсе останешься, а?..» И уколола обида на Ерёмина: успел-таки, а вот его Лешка и девчонку не народил, не то что пацана…
И, как всегда, когда ему было трудно в последний долгий-долгий год, обратился он к сыну:
«Что же делать, Леша? Что? Подскажи, сына!.. Ты ведь знал в свой час… Знал ведь! Что же ты молчишь, сына?!»
И, поняв, что уже готов к этому, Баглей отпустил теплую руку Ерёмина и нашарил ладонью его шлем, холодный и округлый, как тыква, что приносила когда-то старушка мать из погреба в его родной станице. Сбоку этой прочной, медной тыквы начинался отросток воздушного шланга, прикрученного к штуцеру гайкой. Своими цепкими мужицкими пальцами, с силой, удесятерённой всей злостью и отчаянием, Баглей, как клещами, свинтил гайку, не сдергивая раньше времени самого шланга, чтобы не хлынула предательская вода.
— Держись, держись ещё трошки, Алешка! — сказал он сам себе и Еремину, хотя того, кажется, звали Юрой. — Не сдаваться, как тот обломок! Не сдаваться, чуешь!
Он помешкал стравливать воздух, подождав, пока рубаха упруго не запружинила. Выбросить наверх в раздутом скафандре, точно закупоренную пустую бутылку, его не могло — завал не пустит, хоть тут чуть не лопайся от воздуха. Надолго ли хватит ему этого запаса, Баглей старался не думать.
Согнув свой шланг петлей, в которой пульсировала жизнь, он вытащил нож и расхватил петлю надвое быстрым и точным движением. И тут же, сдернув со штуцера Еремина омертвелый нерв его воздухопровода, он с силой надвинул на его место свой.
И теперь, диктуя себе каждый вдох и выдох с точностью метронома, зная, что сделал всё и сделал правильно, готовый к своему смертному часу, не робея перед ним и не жалея ни о чём, Баглей повернулся на спину и тихо застыл рядом с Ерёминым.
…Когда их откопали и подняли, то не сразу разобрались, отчего так переплелись шланги молодого и старика. Предположили: воздуховод Баглея перебило огромным камнем. Но чуть Еремин пришёл в себя и первым делом стал спрашивать, что с ним и удачно ли добрался дед до катера, все стало окончательно ясно, и перехватило дыхание, словно чья-то невидимая рука сдавила сердца команды «РК-40».
Погода опять переменилась. Солнце то показывалось, то уходило в тучи, но было уже ясно: ветер не взял своего. Волны потеряли направление и беспорядочно сталкивались, точно растерянное стадо без вожака.
Спардек качало меньше всего, и Баглея положили там. Угасающий пульс своими короткими, охристыми от табачища пальцами Глотов уловить так и не смог. Он вытащил серебряный портсигар с именной надписью на крышке, поднес к губам старого водолаза, и портсигар как будто бы затуманился…
— Ну?! — хрипло то ли спросил кто-то, то ли волна зашипела, то ли шумно дышали люди. И Глотов, готовя шприц для укола, подняв его, спрыснув струйку и посмотрев на свет, буркнул, не оборачиваясь:
— Чего «ну»! Не засти, нукало!
Баглей лежал прямой и бледный, только усы его словно потемнели, а руки были стиснуты в кулаки. Раздевать его пока не стали, скинули только груза и галоши, а рубаху сдернули до пояса. Он лежал в своем просторном, грубом водолазном свитере, с закатанным для укола рукавом, и его потускневший, давно не чищенный медный шлём с двумя вмятинами, из которых одна была совсем свежая, стоял рядом — испытанная, всегда готовая честно служить солдату каска.
Севастополь.
ЕЛЕНА ТИХМЕНЕВА
Мне бы очи синие,
как река,
мне бы косы длинные,
как века,
мне б луга зеленые
расстелить у ног,
мне бы травы сонные
заплести в венок,
сарафаны б пестрые
все в цветах,
мне бы речи добрые
на устах.
Ну, а я со стрижкою,
благодать,
наряжусь мальчишкою,
не узнать…
Была гроза. Кружился ветер.
Цвела росинками листва.
Кружились в сердце целый вечер
ещё невнятные слова.
Луне навстречу в полудреме
плыл запах луговой травы.
Весь этот мир, такой знакомый,
вблизи раскинулся Москвы.
Гул электрички, нарастая,
стремился воздух пронизать,
а мне казалось: все я знаю,
смогу ли только рассказать?
Понуро и зло безбрежность
встает в темноте за плечами.
Во мне всего века нежность
и мира всего печали.
Девочка засыпала —
женщина просыпалась,
а я ничего не знала,
тихонько во сне улыбалась.
Е. ТИХМЕНЕВА — ученица 10-го класса, москвичка.