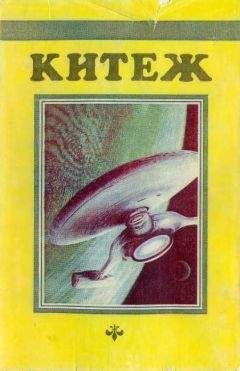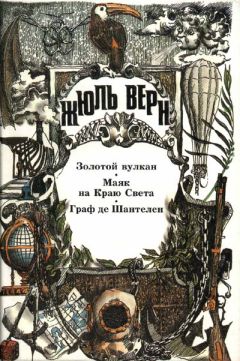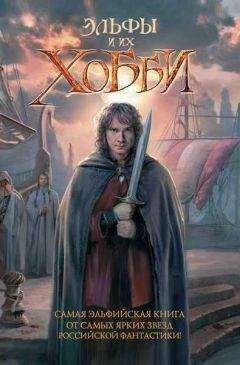Александр Черненко - Моряна
—Никуда не пойдешь! — резко оборвал он ее. — Тут пока останешься! Я с тобой не говорил еще по-серьезному.
— Батяша!..
— Довольно! — Старик сердито притопнул ногой. — Поговорю, помуштрую тебя, а тогда - провожу... Завтра вместе поедем в Островок, мне тоже надо.
Он вытащил из сети игличку и стал проворно метать ячеи...
«Ну и хитрец! Ну и вертун этот Максим Егорыч!»— удивлялся Дмитрий выходкам старика, сидя у себя в кухне и припоминая события на маяке.
Сегодня ловец чувствовал себя хорошо, а вот вчера, как вышел с маяка — всю дорогу, и вечер, и ночь, — он волновался, думал, не мог заснуть... Дмитрий не, понимал, что случилось с маячником: почему он переменил свое отношение к нему? Вначале Егорыч с добродушной укоризной наставлял Дмитрия на жизненный путь, обещал даже дать ему на весеннюю путину кулас, а потом вдруг, как только съездил в Островок, переменился.
И только сегодня утром, когда пришел Матвей Беспалый с ключами от стариковского дома, Дмитрий наконец понял намерения маячника.
Матвей подробно рассказал ему об этой оказии.
Во время рассказа лицо у Беспалого было, как и всегда, непонятное; говорил он тягуче, без выражения, и никак нельзя было догадаться: спокоен он или в обиде на Казака.
Но когда вытащил из кармана связку ключей, чтобы передать их Дмитрию и тот начал отказываться, делая вид, что ничего не понимает, Матвей вдруг рванулся с табуретки и, кажется, в первый раз раздраженно вскричал:
— Обалдуй ты!..
Швырнув ключи на пол, он с руганью выбежал из кухни.
«Прорвало наконец-то!» — ухмыльнулся Дмитрий.
Подняв ключи и вертя на пальце колечко, на которое они были нанизаны, ловец зашагал по кухне. Так он долго ходил, весело позванивая ключами.
Только теперь Дмитрию стал полностью понятен Максим Егорыч.
«Вертун!.. Хитрец!.. — думал он. — Хочет все по-своему! С норовом старик! Ну, да ладно!»
Он улыбался, потирал руки, нетерпеливо поджидая с маяка Глушу и Егорыча.
Дмитрий и до этого смутно догадывался о согласии старика на уход Глуши от Матвея, но маячник почему-то все хитрил, юлил, не соглашался; он и до последнего дня открыто не дал согласия на совместную жизнь Глуши с Дмитрием.
«Вот вертун! — изумлялся ловец. — И чего ему надо? Чего дурачится?..»
Дмитрий был уверен, что дело обстоит именно так: тешится над дочкой Максим Егорыч по привередливой старости — и только!
Он остановился у окна и, наблюдая, как неистовая моряна срывает с земли остатки снега, крутя его над поселком, поежился от холода и подумал:
«А старикан ведь может еще что-нибудь отчубучить».
Когда Дмитрий уходил с маяка, Егорыч, помнится, обещал на следующий день прийти вместе с Глушей в Островок.
«Сегодня, видно, уже не явятся, — дело идет к вечеру, да и непогода вон какая!»
Он опять посмотрел в окно, за которым буйно кружила моряна.
Дмитрия вдруг пронзил жгучий озноб. С тех пор, как он ушел с маяка, этот мучительный озноб часто напоминает о себе.
Он долго не мог согреться. Вздрагивая, отошел от окна к печке и, растопив ее, присел на чурбан.
«Не надумал ли опять чего старикан?» — продолжал рассуждать Дмитрий, тревожась отсутствием Глуши и Максима Егорыча.
Он нечаянно разжал кулак и выронил ключи, усмехнулся и, довольный, зашептал:
— Придут... Завтра придут... Может, к утру и моряна затихнет... — и придвинулся ближе к печке; нагнувшись, глянул в ее зевло — жаркое пламя окатило его теплом и сразу всего согрело.
Он сунул ключи в карман. Шаркая ладонью о ладонь и жмурясь, Дмитрий задумчиво смотрел на гудящее пламя, которое бурно рвалось в трубу.
Белый с черными пятнами Пестряк бесшумно скакнул с кровати и сонно потянулся, упираясь передними лапами в пол и выгибая спину. Обмахнув лапой белую, с черным пятном на носу мордочку, он лениво поплелся к печке.
Тихонько мурлыкая, Пестряк долго ласкался у ног ловца, — он терся боком, обводил ноги Дмитрия пружинистым хвостом и беспрерывно тянул свое теплое:
— Хх-хррр... хх-ррр...
Дмитрий вздрогнул, когда Пестряк облизнул его руку. Погладив кота, он дребезжащим басом, в тон Пестряку, заурчал:
— Налаживается, Пестряк, наша жизнь... Налаживается...
Почуяв ласку, кот громче и приветливей замурлыкал; он упруго выгибал спину, подставляя ее под большую шершавую ладонь ловца.
И Дмитрию хотелось без конца, поглаживая пушистую, теплую спину кота, слушать его однообразную, радушную песенку.
Так хорошо неторопливо размышлять над тем, что говорил ему Максим Егорыч: о жизни, о живоглотах, о куласе...
Кот улегся в его ногах и, то закрывая, то открывая глаза, едва слышно мурлыкал. А Дмитрий думал о том, что было бы неплохо воспользоваться куласом маячника. Он прикидывал в уме свою сохранность: хватит ли у него денег на полный обзавод сетями и всякой к ним мелочью?
Будто и хватит, будто и нет...
Да он и не хотел сейчас окончательно решать этот вопрос, — он ждал встречи с Алексеем Фаддеичем, хотел знать результаты подсчетов.
Дойкин вчера, перед тем как прийти Дмитрию с маяка, ускакал на стригунке в район и до сих пор не возвратился.
— Узнаю точно свои подсчеты, — говорил себе Дмитрий, — тогда и видно будет, что делать. Может, и не потребуется кулас Максима Егорыча. Глядишь, денег хватит и на свою бударку.
Вчера вечером у Дмитрия был Сенька; они так и порешили: подведет он счета, а тогда и думать будут, как быть. Договорились они еще и о том, чтобы сходить к Григорию Ивановичу Буркину поговорить с ним об артели, попросить его поехать в район на помощь Андрею Палычу, за кредитами...
Закрыв глаза и положив мордочку на вытянутые лапы, Пестряк мурлыкал уже совсем тихо, с перерывами.
Дмитрий поднялся с чурбана, не торопясь прошел к кровати, вытащил из-под подушки бумажник, в котором хранились разные документы и письма. Ему захотелось снова прочесть письмо Шкваренко — секретаря комсомола того полка, где Дмитрий проходил военную учебу.
Шкваренко писал о том, что полковой комсомол беспокоится о бывшем сослуживце, и спрашивал, как идет его жизнь, какие дела в их поселке.
От письма, которое было прислано еще год назад, Дмитрию стало не по себе. Секретарь написал всего несколько строк — строгих и сухих, как полковой приказ, но в то же время таких близких и понятных.
— Товарищи... — взволнованно зашептал Дмитрий, снова присев к печке. — Дружки вы мои...
Он. чувствовал себя виноватым перед Шкваренко, перед всей полковой комсомолией, упрекал себя, досадовал. Особенно неловко чувствовал он себя перед секретарем, которому обещал писать обстоятельно про все дела в Островке: и про комсомол и про артель...
От стыда Дмитрий прикрыл глаза, словно сейчас стоял перед ним сам Шкваренко.
Дмитрий все задерживал ему ответ, все надеялся, что вот-вот подвалит счастье, справит он бударку, сети и тогда, организовав артель, напишет секретарю подробное, хорошее письмо.
Он сокрушенно покачал головою, развернул лист тонкой пожелтевшей бумаги, на котором было когда-то начато им ответное письмо полковому комсомолу:
«Дорогие дружки и товарищи! Дорогой секретарь Шкваренко!
Живу я, как вы сами знаете, на самом краю света — кругом вода да камыш, ветер да вода...
Ни сельсовета у нас в поселке — за малочисленностью населения, ни комсомольской ячейки — это уж по бессознательности (всего двое нас, комсомольцев: я да еще Сенька Бурый).
Судьбина моя пока нерадостная: штормяк разорил меня в пух и прах...»
Не дописал тогда Дмитрий этого письма — решил подождать лучших времен. Боялся, что засмеют его ребята, скажут: «Э, какой слезливый стал!» Так прошел месяц, полгода, год...
— Ничего! — вдруг радостно, шумно выдохнул Дмитрий, вспоминая Глушу, Максима Егорыча, обещанный кулас. — Ничего! — громко повторил он. — Скоро такое письмище напишу — держись, Шкваренко!
Пестряк поднял голову, облизнулся, посмотрел на хозяина и опять громко, журчливо затянул песенку.
— Правда, Пестряк? — и Дмитрий ласково потрепал кота.
Вынув из кармана ключи, принесенные Матвеем, и крутя колечко на пальце, он стал медленно прохаживаться по кухне.
Пестряк ходил следом за ним, выглядывая то с одной, то с другой стороны, как игриво вертелись в руке хозяина ключи, празднично позванивая.
— Налаживается, Пестряк, наша жизнь, — говорил Дмитрий, потешаясь над прельщенным ключами котом, который забегал вперед и поднимался на задние лапы. — И твоя жизнь, Пестряк, станет лучше. Хозяйка у тебя скоро заявится, перестанешь бездомничать...
Неожиданно распахнулась дверь, и в кухню вошли Яков и Сенька.
— Ну, как живешь-можешь? — хмуро спросил Яков, тяжело опускаясь на чурбан у печки.