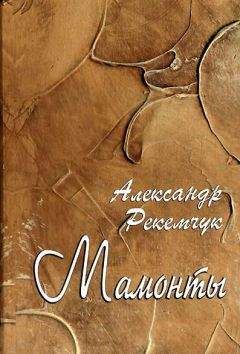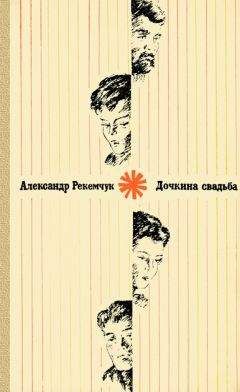Александр Рекемчук - Молодо-зелено
Кроме Павла Казимировича Крыжевского, который дремлет, сидя на, стуле, зажав между острых сухих колен палку с рукоятью.
— Таким образом, по итогам квартала, — стал закругляться Федулин, — переходящее Красное знамя мы должны присудить бригаде Бабушкина. Есть другие мнения? Возражения есть?..
— Какие могут быть мнения?
— Двести сорок процентов…
— Возражений нету.
— Голосуем!
Некоторые члены завкома, не дожидаясь, пока Федулин спросит «Кто за?», уже потянули вверх руки. Им хотелось поскорей разделаться с последним пунктом повестки дня, так как заседание длилось без малого пять часов и этот последний пункт ни у кого не вызывал сомнений: двести сорок процентов…
— У меня есть возражение, — поднявшись с места, сказал Коля Бабушкин. — Наша бригада не может принять знамя.
По комнате снова пронесся гул. Но на этот раз — гул неодобрительный. Все опять посмотрели на Колю Бабушкина. Но теперь смотрели совсем иначе: с явным изумлением, с открытой насмешкой, скривив губы, вздернув брови, сняв очки, надев очки…
Коля Бабушкин сглотнул подкативший к горлу комок и тихо повторил:
— Мы не можем, принять знамя.
«Что-то ты зарываешься, парень!.. Странные вещи говоришь. Какая-то у тебя путаница в голове— не впервой замечаю…» — Черемных нахмурился.
«Плохо же вас, товарищ Бабушкин, политически воспитывали, если вы не желаете принимать переходящее Красное знамя…» — Председатель завкома профсоюза Федулин брякнул о чернильницу крышкой.
А Павел Казимирович Крыжевский вдруг зашевелился, открыл помутневшие от дремы глаза и чуть повернул голову — ухом вперед: он в последнее время туговат стал на ухо.
— В нашей бригаде случилось чрезвычайное происшествие, — сказал Николай. — Мы недавно узнали, что монтажник Ведмедь, который работает, который работал в нашей бригаде, подрядился строить церковь на Меридианной улице… Мы замечали, что он отлынивает от сверхурочной работы в цехе и подводит товарищей, но про это не догадывались. А потом — сами увидели. Случайно увидели…
Ропот пронесся по углам.
— Завкому об этом известно?
— Дирекция знает?..
— Товарищи, — вмешался Черемных, — дирекция знает об этом случае. Меры приняты. По настоянию бригады, в которой работал Ведмедь, он уволен с завода. Комсомольская организация треста «Джегорстрой», где Ведмедь состоял на учете, исключила его из рядов…
— Правильно!
— Пускай в дьячки наймется…
— Такой ради денег на все пойдет!..
— Верно, товарищи, — густым басом перекрыл выкрики Черемных. — Все это верно… Но почему из-за одного отщепенца должен страдать весь коллектив? Ведь все остальные члены бригады — настоящие энтузиасты! Работают, не считаясь со временем: порой — с утра до ночи, а нужно — так и ночью… И свое отношение к поступку Ведмедя они уже выразили, изгнав его из бригады… Я не принимаю довода, высказанного Бабушкиным. И не разделяю его щепетильности. Вместе с переходящим Красным знаменем бригаде выдается денежная премия — вполне заслуженная премия! Отказываться от нее неразумно. Пускай меня извинит Бабушкин, но мне-то известно, что половину своего заработка он отсылает родителям, в деревню. И армейская гимнастерка, которая на нем, — это единственный костюм…
— Чего не знаете, не говорите, — полез в амбицию Николай. — Куплено уже.
— Молодец. — Черемных усмехнулся. — Но ты купил, а ребята еще собираются покупать. А Мелентьев жениться собирается…
— Женился уже. — Тем более. Черемных сел.
— Красное знамя мы принять не можем, — твердо заключил Николай. — Не можем. Потому что теперь на всей нашей бригаде — пятно… Знамя — это… как орден. Это даже больше ордена — знамя. И мы его принять не можем.
У завкомовского сейфа, прислоненное к стенке, стояло красное знамя. По правде говоря, сейчас и видно-то не было, что оно красное. Не было видно, какого оно цвета, — поверх полотнища, обмотанного вокруг древка, надет защитный чехол. Это знамя, вместе с чехлом, завком приобрел по безналичному расчету в магазине «Культтовары». На знамени была выткана надпись «Лучшей бригаде» — как раз подошло. В магазине «Культтовары» продавались знамена и с другими надписями: «Передовому предприятию», «За отличное обслуживание», «Будь готов — всегда готов», а также персональные вымпелы с бахромой.
Завком профсоюза совсем недавно купил это красное знамя. Его еще никому не присуждали. Так оно и стояло покамест возле сейфа — прислоненное к стенке, спеленатое.
— …в девятьсот пятом году, в Лодзи. Мы шли со знаменем по Петроковской… Солдаты стреляли залпами, по команде. Но они стреляли выше цели — они не хотели нас убивать… Тогда офицер спрятал свой палаш и взял у солдата винтовку…
Начала этого рассказа никто не слыхал. Никто даже не заметил — среди общего гомона, — как Павел Казимирович заговорил. И говорил он совсем тихо, будто для самого себя. У них, у стариков, есть такая привычка — ни с того ни с сего ворошить старое. Их всегда одолевают разные воспоминания… Он сидел на стуле — сухонький, аккуратный, — зажав меж колен палку, сложив на рукояти морщинистые бледные кисти рук. Он говорил очень тихо, с хрипотцой, то и дело сбиваясь на отроческий ломкий дискант…
Никто не слыхал начала этого рассказа. Теперь все слушали, оцепенев.
— …когда Ежи Ковальский упал, знамя взял Хаммер — он тоже был членом комитета. Знамя не успело упасть… Но тот офицер хорошо стрелял, тоже упал… И тогда знамя поднял Мариан Стрык. Мы хотели забрать у него знамя, потому что он тоже был членом комитета, — а всего в комитете было пять человек…
По окнам полоснул ветер, шершаво ударил в стекла снежной пылью. На минуту померкли и снова налились светом уличные фонари.
— В тот день мы потеряли весь комитет… Это, конечно, было ошибкой. Мы много ошибок допустили тогда. В Лодзи… Нельзя было жертвовать такими людьми, как Ежи Ковальский и Хам-мер. Мы остались без руководства, и потом началась стихия…
Павел Казимирович печально развел руками.
— Когда Хаммер умирал — от раны, последним из пятерых, — он плакал и просил прощения. «Я все понимаю, — говорил он. — Но я не мог иначе. Ведь это — Красное знамя!»… Да…
Крыжевский задумчиво пожевал мягким, беззубым ртом.
— Это знамя мы сберегли до семнадцатого года…
Окна скреб ветер. Сильно пуржило — к весне. Шальные космы снега обвивались вокруг фонарей.
И в комнате, у лампы, вились затейливые космы. Надымили табакуры — хоть сдохни, если ты некурящий. Пять часов идет заседание.
— Видите ли, товарищи… — Председатель завкома Федулин шевельнул крышку чернильницы. — Мы не можем не принять во внимание… Тем более что бригада Бабушкина категорически отказывается принять знамя… В таком случае, мы должны присудить Красное знамя другой бригаде. — Федулин заглянул в разграфленную бумажку. — Хотя показатели у других бригад ниже. Например…
— А почему мы обязательно должны его присуждать?
— То есть как? — Председатель завкома воздел плечи. — Поскольку мы учредили переходящее Красное знамя для лучшей бригады завода…
Он обернулся. Знамя стояло в углу, возле сейфа, прислоненное к стенке.
— …то из этого следует… — Что следует?
— Ничего из этого не следует! Наперебой летели голоса.
— Достойные будут — присудим.
— Верно!
— А пока — пускай в завкоме постоит.
На том и порешили.
Как-то перед концом смены Николай зашел в конторку позвонить Черемныху — в керамзитовом цехе была такая конторка с телефоном. Фанерный закуток, еле втиснешься. Ему надо было позвонить главному инженеру насчет завтрашней работы. Но едва он потянулся к трубке, телефон сам зазвонил.
— Керамзитовый, — отозвался Николай.
— Позовите Бабушкина, — сказал в трубке мужской голос. Совершенно незнакомый и довольно противный голос — гундосый.
— А кто просит? — осведомился Николай. Ему не хотелось сразу объявляться, что это он сам и есть Бабушкин. Чтобы не подумали, будто он целый день, вместо работы, сидит тут в фанерном закутке и дожидается, пока ему позвонят по телефону.
— Один знакомый, — сказали в трубке. Николай очень удивился. У него сроду не бывало таких гундосых знакомых.
— Ну, я — Бабушкин…
В трубке воцарилось молчание. Потом клацнуло, отрывисто загудело — отбой…
Вот хулиганье. Мало им по квартирным телефонам баловаться — балуются по служебным.
Николай хотел уже снять с рычага трубку и набрать номер Черемныха — ему нужно было договориться насчет завтрашней работы, — как телефон снова заверещал.
«Ну, погоди. Ты у меня добалуешься!..» — обозлился Николай и, нарочно изменив голос, чтобы его за прежнего не приняли, ответил:
— Алло.
— Бабушкина позовите, — пронзительно и настырно, как девчонка, которую тянут за косу, пропищала телефонная трубка.