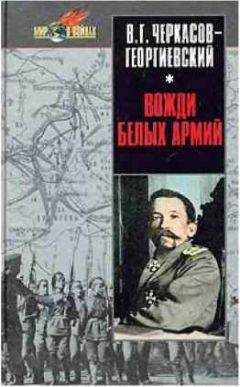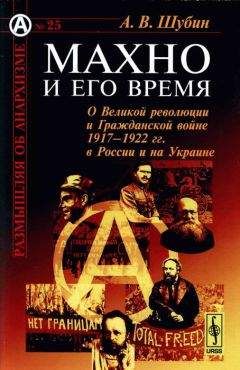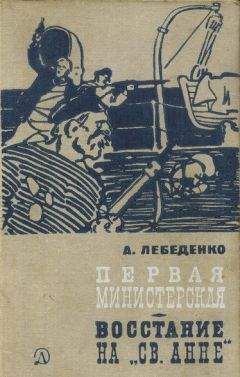Александр Лебеденко - Лицом к лицу
Когда дверь за Сверчковым закрылась, Вера Васильевна решительно покачала головой.
— Нет, нет, — сказала она сестре. — Это не то, что нужно. За такого нас не поблагодарят. Надо быть очень осторожными в выборе. Этот кончит у большевиков.
— Сомневаюсь, — ответила Валерия. — Там тоже не ищут слюнтяев… Кстати, Леонид Иванович Живаго хотел тебя видеть. У него новости… из Парижа от Гучкова.
Сверчков шел по Гороховой. Сейчас он был сыт и склонен к скептицизму.
Эти фрондирующие против большевиков дамы, конечно, смешны, и небреющийся приват-доцент — подходящий для них факел веры. Но вот завтра, завтра! Завтра Маша уже не приготовит ему и Ульриху картофель в мундире. Ни крошки хлеба. Нет. Надеяться на крестовых дам нельзя. «К тому же я, кажется, не понравился, — промелькнуло между другими мыслями. — И зачем это я брякнул об иностранцах и большевиках?.. После этого весь тон сразу изменился. А жаль. Вера Васильевна была бы так уютна как друг, а может быть… — Но к черту любовниц, — нужна работа. Хоть грузчика. А что грузить? Где теперь грузят?»
Домой идти не хотелось, и Сверчков решил зайти к Демьяновым.
Хотелось застать Маргариту. Когда человек не голоден, требуется что-нибудь острое. Маргарита, видимо, сильно с перцем. Он встречал ее дважды: на дежурстве и на лестнице. Она еще девчонка, но все кажется, будто в один прекрасный момент вот так, сдуру, возьмет и скажет жарким шепотом что-нибудь совсем неожиданное.
Но дома оказался только Петр. Он обрадовался Сверчкову шумно и неестественно. Казалось, он был чем-то возбужден. Неужели его приходом? Откуда, собственно, такая приязнь?
— А я один, — сообщил он вместо привета.
— Редкий случай?
— Иногда бывает невредно…
Петру восемнадцать лет. Мальчишка выдает себя за мужчину. Он взял Дмитрия Александровича за рукав и повел по квартире. В коридорах и комнатах он аккуратно гасил за собой электричество. Оглядывался в пустой квартире, как будто шел густым лесом или переулками.
Петр распахнул дверь в ванную. Блеснули белые кафели, никель бидэ и кранов. Петр вошел, не зажигая света, и стал отодвигать какие-то доски, может быть от раздвижного стола… За досками обнаружилась узенькая дверь.
«Фотографией занимается, что ли?» — размышлял Сверчков.
— У вас такой нет? Правда, здорово? — восхищенно спросил Петр. — Это только у нас и у Ветровых. Нипочем не догадаться. А я еще эту дверь под кафели разрисую. Масляной краской. Пинкертону не открыть.
В оштукатуренной кладовушке с полками по стене и с запыленным окошечком в соседний брандмауэр, пылала многосвечовая лампа.
— Ничего работенка! — воскликнул, перешагнув порог, Сверчков. Три стены, свободные от полок, были увешаны открытками смелого содержания вперемежку с автотипиями нагих женщин. Оформление кладовушки, по-видимому, принадлежало самому Петру и свидетельствовало о деятельном и целенаправленном воображении автора.
— А… Этим я больше не занимаюсь, — вскользь заметил Петр, — некогда снять… Потом я еще изобретал аэроплан. А сейчас вот…
В углу на винном ящике плоский аппарат с ручным прессом.
— Это гектограф — сто штук в час.
Сверчков взял клейкий листок в фиолетовых потеках.
«С нами бог и Россия», — прочел он сверху.
«К солдатам русской армии».
«Братья! Враг угрожает вычеркнуть нашу родину из списков…»
— Какой дурак это писал?
— Почему дурак? — спросил Петр, сидя перед Сверчковым на корточках.
— Какой же солдат поймет такое: «вычеркнуть нашу родину из списков»? Густо плевал он на ваши списки… и все такое…
Петр смутился.
— Неужели не поймут?
— Если и все в таком роде — растопите этой литературой ванну, — посоветовал Сверчков. — И для кого это вы готовите?
— Кто поедет на фронт — раздаст.
— Вы сами это выдумали? Или это по заказу?
— Ну, есть люди… — сказал, вставая, Петр. — А вы бы написали, Дмитрий Александрович, а я ночью отпечатаю. Завтра утром отправка… На Молодечно.
«Врет он или действительно агитация?» — размышлял Сверчков.
— Это, знаете, не шутка, — говорил Петр. — За такое — на Гороховую. По городу каждую ночь обыски. Верно, напишите, хоть немного, но погорячей. И чтоб солдатам было понятно. Идем к маме, там есть чернила.
Сверчков писал недолго. В этот момент он ненавидел «всю эту кашу и ее сотворителей». Он был зол, потому что у него на завтра нечего было есть, потому что не застал Маргариту, потому что все происходящее было выше понимания. Когда человек зол, ему пишется легко. Через десять минут прокламашка была готова, и он прочел ее Петру. Петр хлопал в ладоши и прыгал, как клоун.
Сверчков сидел на табурете в душной от стосвечовой лампочки кладовушке и смотрел, как свиваются в трубочку отдираемые ногтем от желатинной массы липкие листки.
Он силился вообразить себе солдата, который, прочтя эту бумажку, подумает и скажет:
— Беру винтовку, иду на защиту родины.
Воображение начисто отказывало, и Сверчков еще больше злился и мрачнел.
— А вы между прочим очень доверчивы, молодой человек, — сказал он Петру вслух и дополнил про себя: «Дурак».
— Но ведь вы же офицер? — удивленно поднял голову Петр. — И потом вы — родственник фон Гейзена…
Листки копились кучкой, Петр утирал со лба пот. Дмитрию Александровичу становилось скучно, он посмотрел на часы и откланялся.
Петр шел за ним, в каждой комнате гасил электричество и в коридорах осматривался по сторонам.
Глава XIX
ПРИВАТ-ДОЦЕНТ ОСТРЕЦОВ
— Признаюсь, — склонив голову набок, размеренно роняет тихие слова Валерий Михайлович Острецов, — за последние месяцы я на многое стал смотреть иначе. Многое, на что я раньше не обращал внимания, выходит в эти дни на первый план. И от всего этого никак не отмахнешься. Все это новое требует внимания, требует отношения к себе…
Валерий Михайлович перебирает длинными сухими пальцами. Пледом, зеленым с серой бахромой, укутаны больные ноги Валерия Михайловича. В комнате холодно. Нет электричества. Нельзя ни писать, ни читать. Только дружеская беседа, методически развивающаяся, выстраивающая на свет чужого внимания недодуманные мысли, еще не отшлифованные формулировки, помогает коротать часы позднего вечера. При этом Исаак Павлович Изаксон — прекрасный собеседник, он умен, остер, привычен к полемике. Он не способен ни согласиться из лени, ни скрыть свое несогласие. Валерий Михайлович в ответственных случаях любит размышлять вслух. Когда думаешь про себя, мозг может лениться и вырабатывать суррогат. Но речь — это экстракт, это экзамен. Она должна быть отчетлива.
Исаак Павлович долго слушает, не перебивая. Но на лице его уже проглядывает нетерпение. Он все чаще перекладывает ногу на ногу, стучит крепким манжетом по пепельнице, смотрит на часы, бросает, не докурив, папиросу…
Вынужденное бездействие тяготит Исаака Павловича Изаксона больше, чем голод, больше, чем досадный обувной вопрос, больше, чем долг Терезе Викторовне, больше, чем смешные, наивные мысли Острецова, даже больше, чем разлука с семьей.
На гребне деятельности и славы пребывал Изаксон весь семнадцатый год.
Его речи, статьи разлетались по стране. На митингах его носили на руках. Его качали так, что он уже заранее снимал пенсне и вручал его какому-нибудь застенчивому и польщенному юноше. Каждый день его куда-нибудь избирали. Врастая во всевозможные организации, легко расширяя свою популярность, он становился все более необходимым своей партии, и он все больше ценил эту партию, которая выдвигала его и делала неуязвимым для врагов и завистников. Ему льстили женщины и завидовали мужчины, и впереди раскрывались невиданные горизонты. Можно было смело, несдержанно мечтать.
Теперь он отсиживается в меблированной комнате скучнейшей госпожи Зегельман. Говорят, пишут, действуют другие. Люди, загнавшие его партию в подполье.
Подполье хорошо знакомо Исааку Павловичу. Его трудности и ореол. Это не первое подполье партии, и он убежден, что оно будет во столько раз короче, во сколько сейчас слабее враг. Угар пройдет, и массы, как воды, пережившие половодье, вернутся в русло.
Но бездеятельность и сопряженная с нею тоска подступают к вечеру, как враг, затевающий долгую осаду. Исаак Павлович звонит по телефону, пишет письма, задним числом ведет дневник великих дней и, если гаснет в доме электричество, идет к приват-доценту Острецову. Для этого чудака все, кроме истории и театра, — любопытная, но чужая специальность, о которой он рад слушать, удивляясь и ненадолго заинтересовываясь, как инженер, впервые узнающий от врача о новых методах лечения рака.
— Я всегда был далек от политики, — говорит Валерий Михайлович. — Последние годы я был в своем замкнутом мире театра. Вы знаете, я люблю свое дело. Эти события мне показались… как вам сказать… ну, чем-то вроде землетрясения. Я был удивлен и даже возмущен многим. Нашей изменой союзникам. Нарушением привычных и, казалось бы, разумных прав и общественных норм. Вместе с тем я был убежден, что все это, как землетрясение, как циклон, как лавина в горах, будет кратковременно. Можно ли долго существовать в таком хаотическом, подчиненном каким-то неизвестным законам мире? Мне казалось — нельзя. Но это грозит застыть в новый порядок вещей. И чтобы быть честным с собой — нельзя же отрицать неизвестное, — я решил познакомиться с марксизмом.