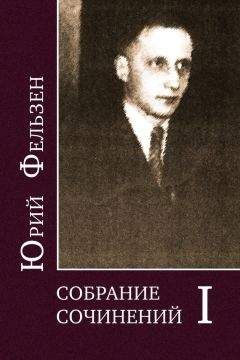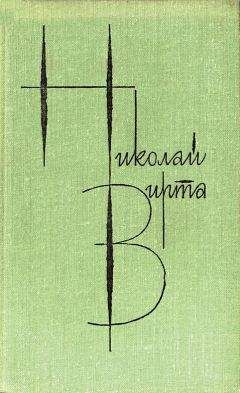Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II
– Pas une occasion, c’est une sensation.
Очень неубедительны наши отношения. Никак не складывается тон и темп. Ни душевной пьяной лирики, ни взаимного доверия, ничего, что могло бы ободрить или сблизить.
Не слишком ловко она кладет под мою тарелку деньги, и мы уходим.
Свои немногие франки отдал привезшему нас шоферу, у меня нет на гардероб, а венгерка не понимает, что нужна мелочь, и у нее жадность в глазах.
2.
Дождь, такси, любовь кончилась. Едем далеко в ночное кафе. Оно длинное и не очень широкое. В середине проход. По бокам малиновые диваны и столики образуют как бы отдельные ложи. Мы в крайней. С нами последний шофер, рослый сорокалетний француз, с висящими усами, в гетрах и весь в коже. Он молчит и, по-видимому, знает свое место.
Венгерка: «Je veux…»
Скрываю, что поражен ее бесцеремонностью. Заказываю кофе и бенедиктин. Приятно сразу после ликера – одним дыханием – глотнуть горячего кофе. Тот же вкус, не знаешь, два обжигающих или два опьяняющих напитка.
Пьянею. Венгерка вернулась, грубо ко мне переменившаяся. Внезапно внимание нашего столика обращено на маленькую, не молодую, прямо держащуюся женщину. У нее кухарочный вид и странно пристальные, мимо вас, глаза, сухие и упрямые. Что-то от юродивой.
Венгерка подбегает к ней, узнает имя Marie и просит-молит присесть к нам. Marie точно ждала этого и, точно играя на сцене, нехотя, важно соглашается. Француза и меня представляет, причем рука ее не сгибается в моей – вероятно, хороший тон.
За нами наблюдают – господин, серьезный, среднего возраста и с ним две славные молоденькие барышни, не скрывающие веселого удивления. Мне поразительно ловко – от пьянства или от уверенности, что этих людей никогда не увижу, да и они не узнают, кто и почему будет платить. Внутреннего стыда никакого. Ведь я делаю опыт, душевный и внешний, я добровольно иду на единичную авантюру.
Между тем венгерка восхищенно расспрашивает Marie. Она бретонка, больше ничего не запомнил, любознательность прошла. Временами от меня требуется любезное участие. Исполняю, как заказ. Потом предаю свой столик, курю и улыбаюсь, словно нарочно и смеха ради залез в грязную историю. Вскоре и это ни к чему, господин с барышнями уходят.
Пьянею быстро. Я не курильщик, и папироса среди рюмок всегда меня ослабляет. Хочется возрастания шума, какого-то в нем разрешения, чтобы дерзко себя развернуть. Очевидно, трезвый, я чересчур свернутый.
Заказывается новый, белый ликер. Незаметно наливаю свой в венгерскую чашку. Изумление: «Tiens, le cafe est arrose».
Продолжается ухаживание за Marie, я забыт. Обе женщины кажутся грязными и противными. Француз еле разговаривает и чокается только со мной. В его непроницаемом достоинстве осуждение.
Больше не сидится. Гуляю со скукой вдоль прохода. Привычное одиночество среди людей, не требуется немедленных ответов, готовой позы. От этого постепенно становлюсь собой – мешает шум, какая-то потеря памяти, грубое пьяное безволие.
Мною чрезвычайно занята сравнительно молодая пара в одной из лож. Дама улыбается, показывает на меня, откуда-то ее помню. У мужчины смелые до наглости голубые глаза и хорошее правильное лицо. Своим взглядом, наглым и в то же время сочувственным, он сразу меня обворожил. Уверенно делает знак подойти. Конечно, русские.
– Я вам подавала у «Донона», вы были такой джентльмен, с американкой, такой тонный. Сразу вас узнала, а вот глазам не верю.
Она права, только американка была простенькой и скучной француженкой, и ресторан много скромнее своего названия.
– Бывает, что влипнешь. Но вы не подлец, сразу видно. Садитесь с нами, со своими.
Я тронут доверием голубоглазого, не в меру благодарю и сбивчиво объясняю, что без денег.
– Ничего, мы шоферы, извозчики, ну да деньги есть.
Мы задаем друг другу тысячу вопросов. Русские до сих пор не привыкли, что их тьма в Париже, и они взаимно доброжелательны и любопытны, как земляки в казарме.
Даму нашу зовут Зоей. У нее бледное тонкое лицо, густые брови и черные удлиненные глаза – весь тип облагороженно восточный. Прическа на grande beaute, волосы гладкие, сзади узлом и пробор посередине. Но грязные ногти, и не хватает одного переднего зуба.
Мой голубоглазый красив, самоуверен и за всех говорит. Вероятно, в прошлом бойкий студент из провинции, немало потом навидавшийся.
Романа у них, кажется, нет – во всяком случае, оба заняты только мною.
Все это необыкновенно приятно: наконец, после шаткой неуютной ночи верное убежище. Ради прочности его должен доказать, что не «подлец» и не попрошайка. Дома под ключом стофранковки, которые берегу от самого себя. Замышляю план и немедленно хочу осуществить.
– Господа, мы сейчас же едем ко мне, это близко. Вы одолжите на выпивку, хорошо?
Не терпится, тороплю. Голубоглазый неожиданно советует:
– Все-таки попрощайтесь со своей венгеркой.
В последней ложе пир горой. Целую руку, никто не замечает. Вдруг француз с висящими усами, о котором забыл и думать, тяжело встает.
– Je vous emmene.
Он по-товарищески сговаривается с голубоглазым, причем у обоих одинаковые фуражки. Это мне кажется особенно трогательным, высшая точка в нарастании, неправильность и оторванность которого смутно понимаю.
Француз же покупает куэнтро.3.
Правит он ловко, и очень скоро все у меня, в чистенькой, обычно тихой комнате.
Развешиваю мокрые от дождя пальто, одно кожаное. Зоя ложится на кровать, но сейчас же просит провести ее в ванную. Это неудобно, надо идти через коридор. Объясняю, показываю. Голубоглазый уходит за нею.
Остаемся вдвоем с французом и пьем ликер из больших рюмок. Сочиняю умиленные тосты: о сближающем труде, об «их» к нам доброжелательстве, вообще о помощи сильных слабым и не к месту, зато личное – о доверии в любви. Впервые за долгое время говорю стыдные глупости, которые, знаю, испортят пробуждение.
Француз молчит, скорее одобрительно, и всё более производит впечатление спокойной силы.
– Ах, да, я же вам должен.
– Бросьте, какая разница.
Но в отдаче долга весь смысл визита. Открываю свой личный ящичек с давно исписанными тетрадями. В одной восемь стофранковок. Хочу расплатиться, прошу сдачи, но гость мой джентльмен.
Голубоглазый зовет меня на помощь. Нашей даме нехорошо. Она трудно дышит, опираясь лбом об окно, и плачет. Естественно обнимаю, глажу по волосам. Фигура жесткая, гибкая, худая, что иногда меня трогает.
Ухаживаем за ней дружно и терпеливо, потом все трое возвращаемся ко мне в комнату, где молчаливый француз один перед бутылкой.
Снова укладываем Зою в кровать. Она продолжает плакать.
– Подумайте, дома муж, мои девочки. Господи, какой ужас, какая жизнь. Понимаете, я дрянь.
Кое-как успокаиваю и сам прихожу в безоблачно хорошее настроение. Она засыпает, мы, мужчины, пьем куэнтро, приторный и противный напиток. Пьянею окончательно и, как всегда во второй раз, легко и весело.
Голубоглазый поддевает меня на спор. Горячусь из-за навязчивого подозрения, что не верят моей искренности.
Светло, семь часов. Мои собутыльники хотят уходить и совещаются, не оставить ли даму у меня. Я не прочь, но себя не выдаю. Как ни странно, отговаривает француз.
Необыкновенно быстро собравшись, гости прощаются и благодарят. Гляжу в окно, расходятся по двум направлениям.
Заснул крепко. Встал поздно с брезгливым чувством, что у меня были чужие, с воспоминанием о себе, чужом и грубом.
На столе бутылка. В кармане смятая стофранковка, которую француз не взял. В ящичке ключ.
Я решил, что не та тетрадь, когда не нашел в ней денег. Но и в других не оказалось.
Де К. я рассказал обо всем, кроме эпилога. Он слушал без улыбки, не то стыдясь за меня, не то очень, по-взрослому, осуждая.Жертва
В КОНЦЕ гражданской войны – кто думал тогда, что конец – я уезжал на юг, от красных к красным, но с поручением, им враждебным. Редко случается такое совпадение приятного и лестного, какое было для меня в этой поездке. Она значила доверие к порядочности и ловкости со стороны тех людей, чье мнение меня как бы ставило в собственных глазах. Утихала совестливая некрасивая грызня с собой, что ничего полезного не делаю, а во мне скучное русское свойство – потребность в душевном равновесии тем более острая, чем оно уязвимее. Наконец – и это главное – в городе, куда я направлялся, находилась с детьми – вероятно, застряла – бедная Валя Н., требовательный, умный, давнишний друг, стыдная любовь моих последних лет, так нелепо обнаруженная – в день ее свадьбы.
Первые медленные версты… Удачное завершение многих заискиваний и беготни; эта поездка, вот удобно осуществившаяся – в штабном вагоне – продолжала удивлять и радовать. Я не мог остановить волнения, возникшего сразу после чьего-то решающего согласия. Мысленно пожимал руки, торопился дообещать еще новое тем, кто меня послал, и благодарил других, доверчиво предложивших командировку. Хотелось и этих не обмануть – мы так легко идем на сочувствие, нас покупает успех, и часто только умом знаешь, кому верен, а иногда и ум оправдывает уже созревшую измену.