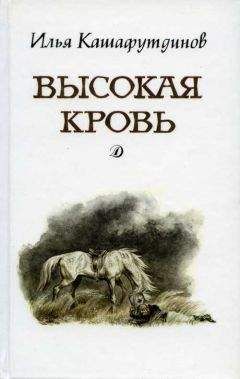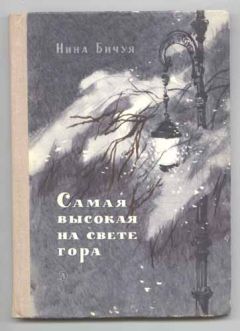Алексей Корнеев - Высокая макуша
— Уфф, черт те дери!.. Ы-ыхх! — содрогнулся от ледяной воды, хлынувшей за голенища.
Пока выбрался из трясины, вылил воду из сапог, в озноб ударило. Ощупал авоську с покупками — все мокрое, в липкой грязи.
— Мать твою бог любил… надо же так угодить!
Степан отдышался, пополз наугад вдоль полынной гривки. Осталось обогнуть крутой каменистый обрыв, спуститься в лощину. Ему казалось, что ползет он целую вечность. А когда наконец выбрался на пригорок, донеслось до него, как из-под земли, завыванье Дикаря.
— А-а, мать твою бог любил… стосковался по хозяину… А хозяин-то…
Заскулил, заметался пес, почуяв своего. Казалось, готов был дверь расцарапать в щепки, только бы облегчить участь хозяина. Да где там — крепка больно дверь, из досок вершковых.
Кое-как подтянувшись на порожек терраски, Степан отомкнул замок, кулем перевалился через порог. Дикарь так и бросился к хозяину, завизжал не то от радости, не то от бессилия ему помочь. Ощупкой, придерживаясь за стену, Степан добрался-таки до дивана. Пока снял сапоги, десять потов сошло, слезы ручьем пролились. Подлизавшегося было кота — тот хотел потереться о сапог — так огрел, что кот отскочил мячиком.
С полчаса, наверное, трясло его, как в лихорадке. А согрелся — тотчас же забылся…
Проснулся Степан — в доме светлым-светло. Припомнил вчерашнее, потрогал ногу — хоть на крик кричи. И плечом не ворохнуться. Что же теперь, в больницу, выходит? Если не считать фронтового госпиталя, ни разу не валялся Степан на койке больничной. И теперь эта мысль испугала его, озадачила. Кое-как приподнялся он, опираясь о стену, добрался до подпечка, вытянул оттуда рогач. Приладив его под мышку, запрыгал вроде спутанного теленка. Где ненароком заденет ногу — крякнет, матюкнет сплеча, а дело делать приходится. Надо же скотинку обиходить да самому покормиться: живой по-живому и судит.
К вечеру, наломавшись, он совсем занемог, раскиселился. Хотел на печку взобраться и не смог, так и заснул на диване, укутавшись шубой… Всю ночь ему виделась всячина: то собрание в клубе, то музыкой в ушах отдавало. А то ползет он будто по обрыву над речкой, ах! — и в омут бездонный летит… Просыпался то в жару, то в ознобе, охая от боли, и снова забывался…
А наутро хоть совсем не вставай. Глянул на ногу — как бревно разнесло. Попробовал подняться — в глазах круги плывут. Не на шутку струхнул, припомнив госпитальный случай гангрены, когда хотели ему отсобачить ногу по самое некуда, да спасибо, хирург подвернулся сочувственный.
До обеда провалялся Степан в постели, надеясь отлежаться. Понятливый Дикарь то скулил, а то затянул протяжным воем: почуял, видно, что с хозяином неладно. А у хозяина от такого завыванья мурашки побежали с головы до пяток.
— Ты што же ето, Дикарушка, по покойнику, што ль, затянул? — бормотал Степан. — Ну, нет уж, братушка, помирать-то нам рановато.
Решительно сбросив с себя одеяло, он ступил было раз, другой, да тут же и повалился, как сноп…
Барабанный стук в окно заставил Степана встрепенуться. Охнул он, разомкнув тяжелые веки, видит, как в тумане — приплюснулся кто-то с улицы, дренькает по стеклу.
— Кто там? — простонал, не понимая: сон это или явь?
Стук настойчиво повторился. За дверью удавленно хрипел Дикарь, надрывался, зачуяв чужого. Степан шевельнулся, на карачках пополз к двери: боялся, как бы не ушел человек. Но торопливость его была так медлительна, что тот уже кричал нетерпеливо:
— Эй, да жив ли ты там?
Наконец хозяин дотянулся до щеколды. На пороге перед ним оказался пастух Федор.
— Да что с тобой, Семеныч, а? На тебе лица ить нету!
— Ой, малый, пропадаю, — замотал тот головой. — Совсем пропадаю… Убился прошлой ночью… Нету больше моченьки…
Боком, боком, опасаясь люто рвавшегося кобеля, Федор затащил хозяина в дом, осмотрел его ногу и воскликнул:
— Да что ж ты добивал-то до сего момента? В больницу надо скорее, сейчас же… верхом на лошади, а? Ну жди, я мигом. — И метнулся на улицу, даже напиться забыл, хотя и явился за этим…
Дальнейшее происходило как во сне. Смутно помнил Степан, как рвался и взвывал Дикарь, почуяв расставание с хозяином, как усаживал его Федор на лошадь, придерживая сбоку. Одна только сверлящая тревога втемяшилась Степану в голову:
Какому быть концу?
Белый, как снег, потолок, белые стены. Раздражающе пахнет лекарствами. В правом углу возле двери постанывает тощий старик с вырезанной грыжей. В левом, напротив, сидит, примостившись к тумбочке, читает книгу молодой сосед с забинтованной, подтянутой к плечу рукой. Степан завидует парню: со дня на день тот покинет палату, выйдет на свободу. А ему сколько ждать, уложенному намертво на койку? «Тюрьма-матушка, как есть тюрьма», — думает он мучительно, ожесточаясь на себя и на весь непривычный мир с белыми стенами, с острым запахом лекарств.
Степан отупело переводит глаза на задранную к высокой станине ногу свою — забинтованную, неповоротливую, как бревно, от наложенного гипса, от прицепленного к ступне оттягивающего груза. Лоб у него морщится, губы перекашивает усмешкой. Все испытания, казалось, поднесла ему злая судьбина…
В раскрытых дверях показывается доктор — пожилой, с белобровым, женственно пухлым лицом. Занося ногу в палату, он спрашивает на ходу глуховатым, со скрипом голосом:
— Ну как, мужички-разбойнички, живется-можется, О чем душа тревожится?
От ласково-насмешливых его вопросов всем становится веселее, и даже старик в углу смолкает, забывая на время про боль.
Парня доктор отечески похлопал по плечу, над стариком «поколдовал» и, обернувшись к сестре, которая тенью следовала за ним, наказал ей что-то на своем языке. Перед Степаном остановился, слегка пощупал ногу, провел по плечу и ребрам, тоже забинтованным:
— Хвалю твою закалочку, мужичок-крепачок! Запоздай ты на день, простился бы с этим светом. А теперь, братец, терпи, самое трудное позади.
— Ладно, не в привычку нам терпеть-то, — принял шутку Степан. — Войну под пулями прошли — уцелели. А тут уж выживем как-нито.
— Ну, ну, молодчина. К весне ты как воробей запрыгаешь.
— К весне-е? — испуганно переспросил Степан.
— А что, раньше захотел? Горячий ты, братец!
— Што ты, дохтор, новый год ить только! До весны-то можно раз пять помереть да воскреснуть.
— Теперь, считай, воскрес, не дадим помереть.
— Хоть бы ногу опустили, — попросил Степан, пытаясь шевельнуться.
— Ну, ну, смотри у меня! — погрозил доктор и направился из палаты.
Выписали его в самую ростепель, когда наполовину зачернели поля, набухли водой лощины, а в больничном старом парке громобоем орали грачи. Славик прикатил по телеграмме утром — не успел отец отзавтракать.
— Уф-ф, мать твою бог любил! — выдохнул Степан, выйдя наконец на волю, в своей домашней стеганке, освобожденный от пропахшего лекарствами больничного халата. — Уф-ф, и надоело, сынок! Так надоело, што язык не повернется как сказать. Надо ить такое наказание — полгода почесть продержали! Што больница, што тюрьма, хоть и не сидел я там… не дай бог…
Бледнолицый, с наивно жадным взглядом, шагал Степан не торопясь, ковыляя по сухой асфальтовой дорожке от больницы, и все не мог насытиться весенним духом. Оглядывал районный центр со всей его пестротою, с домами и малыми и большими — в четыре-пять этажей, с лужами воды по обочинам. Слушал звон весны да ахал восторженно при виде всего. Славик бережно поддерживал его одной рукою, а другой нес чемоданчик. Шел и думал, как бы все-таки сагитировать отца к себе на жительство. Перво-наперво надо в гости его затащить, а там уж будет видно.
— Цельную зимушку ить дома-то я не был! — завздыхал Степан.
— Ладно, батяня, что тебе там делать? С хозяйством все в порядке, тетя Нюша приглядывает. А дом твой — кому он нужен, в чистом-то поле? Да и ехать туда не на чем, в такое половодье.
— Молоко небось кажный день на станцию возят. На тракторе доеду.
— Ну да, так и пущу я тебя! Из больницы да сразу в поле куда-то! Ни разу у меня не был, на новоселье даже не приехал. Посмотришь хоть, как живу в новом доме.
— Ну ладно, ладно, ежели так, — уступил Степан. — Погляжу, как ты там оккупировался…
Чувствует Степан: доволен сынок, что отец к нему припожаловал, и невестка с внучатами тоже. Может, и рады поселить его навсегда в этом чистеньком, отполированном улье. Да только не по себе тут ему, закоренелому деревенщику, вдали от своего, давно и прочно обжитого. Не по себе, как рыбе, выкинутой из глубины на берег: вот тебе и травка мягкая зеленая, и солнышко светит, и пташки поют, а рыбе томко, рыба задыхается…
Он подходит к балконной двери, громко щелкает металлической задвижкой, и вслед за этим в комнату врываются гудение машин, громкие крики ребятни, воробьиное чиликанье. Так и охватывает Степана этой яркостью, теплом и духом весны, — хоть сейчас бы полететь в невидные отсюда родные края. К балкону, к такой высоте Степан не привык. Одной ногою он ступает на бетонную площадку, другая остается на порожке, — все ему думается, не выдержит тяжести эта каменная плита, вот-вот сорвется. От этой мысли холодеет у него кровь, мурашки осыпают спину, он крепче хватается за ручку двери и отступает к порожку: лучше из комнаты, из окна смотреть.