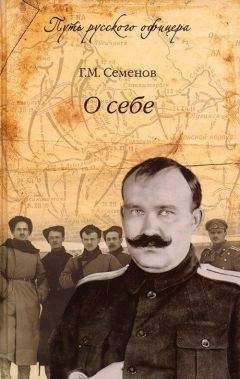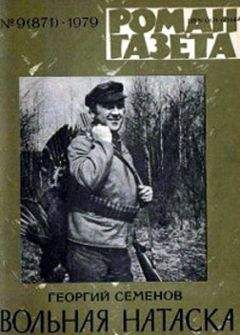Георгий Семенов - Ум лисицы
Улыбчивый на вид, он мог быть и гневливым, резким, как старый мужик, у которого в семье восемь девок на выданье, а женихов — один моторист, да и тот ленив и обжорист, зевотой своей раздражавший Мокеева. «А шо я могу поделать? Спать охота, вот и зеваю! Не могу ничего поделать. Можа, какая болесть… не знаю. До войны не замечалось. А теперь сам удивляюся… Зеваю и зеваю. Не обращай внимания, командир. Може, само пройдет. Я как на девушек погляжу, так и зеваю… От нервов, наверно».
Зевал он с хрустом в салазках, со стонущим приглушенным ревом сытого зверя, словно бы и в самом деле страдая от этой привязчивой зевоты, с которой не знал, как бороться. Мокееву слышалось всякий раз, когда зевал моторист, протяжное и заразительное «уй-ё-о!», которое и его тоже тянуло на зевоту и клонило в сон. Уй-ё-о-о…
Над всем этим подсмеивался старший сержант Мокеев, рассказывая Калачевым, когда заглядывал к ним на огонек, на тусклый моргасик, от потрескивающего фитилька которого в комнате попахивало жженым керосином. Клава Калачева с восторгом смотрела на командира аэростатного поста, пока не поняла, что Мокеев приходил к ним не просто так, а с тайной надеждой на внимание несчастной вдовы погибшего Миши, которая и летом и зимой ходила по дому в стеганых бурочках, жалуясь на отеки. Перед сном, снимая бурки, она морщилась, а потом долго смотрела на опухшие ноги, на желтые подушки, из которых торчали короткие плотные пальцы, нажимала на кожу голени, и в ней оставались белые ямочки.
Ей было всего двадцать три года, она гладко причесывала переливчатые темные волосы, светлой ниточкой пробора разделяя на две половины красивую свою голову с двумя большими черными глазами и прямым тонким носом, двумя полукруглыми черными бровями и овальным подбородком. Миша очень любил ее. Сама она тоже знала о своей красоте, позволяя ему подолгу любоваться собою. Она замирала в неясной улыбке перед зеркалом и большим гребнем расчесывала длинные, тяжелые волосы, которые были холодными на ощупь. Но после гибели Миши она остриглась, оборвала плавную линию текучих, тяжелых волос, оголила сзади белую шею, не обласканную солнечным лучом, и стала распухать от водянки, хотя в то время еще казалось, что она просто растолстела. «Кла-а, — говорила она, называя Клавдию одним этим звуком, — когда ты меня похоронишь, то, во-первых, позаботься о мальчике, а во-вторых, постарайся узнать, где лежит Миша, съезди на могилу и привези горсточку земли. Ладно? Потом эту землю высыпи на мою могилу, а в то местечко посади душистый горошек. Миша мне всегда говорил, что душистый горошек его любимый цветок. По-моему, этот цветок принес ему несчастье… Но все равно посади: на могиле ему будет самое подходящее место. Почему-то я всегда пугалась, когда он дарил мне эти цветы. Почему — не знаю. Всякий раз мне делалось нехорошо. Миша, конечно, не замечал, я ничего не говорила ему, не хотела, а он всегда так нежно дарил цветы, заходил сзади, обнимал и подносил цветы к моему лицу, спрашивая: «Это для чего-нибудь пригодится?» А у меня сердце обрывалось. Честное слово! Не могу объяснить, почему так происходило. Я даже вздрагивала, господи, думаю, опять душистый горошек!»
Налеты на Москву прекратились. Аэростатчики снимали урожаи со своего огорода, и Мокеев угощал Калачевых огурчиками, помидорами или морковью. Все это росло и у самих Калачевых. Но вот хлеб…
Хлеб, который приносил иногда Мокеев, завернув буханку в старую газету; хлеб, о появлении которого они сразу догадывались, видя под локтем у старшего сержанта тяжелый кирпичик в газетной обертке, чудесное присутствие большого хлеба, еще не принадлежащего им, но уже вошедшего в их дом; хлеб этот, когда Мокеев разворачивал его и клал на стол, хлеб с подгоревшей верхней корочкой и бледно-серыми ноздреватыми боками — душистый хлеб плавал в возбужденном воображении, заполняя нетронутой своей цельностью весь дом. Хлеб! Черное лезвие кухонного ножа с похрустыванием тонуло в плотной мякоти, которая обметывала лезвие крахмалистой, липкой пленкой. Тяжелый и сырой, он был так вкусен, что казался самым лучшим хлебом, какой когда-либо ела Клава Калачева.
Теперь, если Клавдия Александровна видела в кино или читала в книгах, что люди в ту пору собирали крошки со стола и отправляли их в рот, она очень раздражалась, потому что тот, военный, необыкновенно вкусный, душистый хлеб не крошился: он наполовину был из картошки, был липкий, был увесистый, как глина. Она помнила картофельные кусочки, светлеющие на срезах черного хлеба, помнила его клейкую массу, но вот крошек на столе не было — хлеб не крошился. И никогда не черствел, потому что не успевал подсохнуть: ни у кого не хватило бы терпения ждать, когда хлеб, принесенный в дом, зачерствеет.
Но это все-таки был хлеб! Он так и остался в памяти хлебом Мокеева.
Хотел, как говорится, усладить вдовушку, но она была неприступна. После войны след старшего сержанта Мокеева был потерян. Красавица вдова умерла. Мальчик ушел в артиллерийскую спецшколу, а потом в училище, а после говорил: «Я воин по призванию и воспитанию», — имея виду, наверное, погибшего отца, за которого он должен мстить, и войну, которая вошла в его кровь вместе с млечным светом суетливых прожекторов в московском небе и орудийной стрельбой по самолетам.
Была однажды зима на берегу Черного моря, теплое солнце и шторм. Оливковые волны, ударяясь о камни, с пушечным грохотом вздымались вверх и белоснежной лавиной рушились с плеском на набережную. Ровный ветер гнал и гнал кологривые волны. Их удары о камни с ритмичной постоянностью отсчитывали время, какое выпало на долю Клавдии Александровны в этом прохладно-зеленом краю.
Как-то раз термометр упал ниже нулевой отметки, усилился холодный ветер, резче стала волна. Вечнозеленый кустарник, до которого долетали брызги, оделся в молочно-льдистую, позвякивающую на ветру кольчугу. Солнце освещало море и далекие горы с заснеженными вершинами и падями, зеленые газоны и толщу ударной волны, катящейся вдоль набережной и извергающейся к небу с вулканической мощью и величием.
И страшно было и весело смотреть на взбушевавшееся море, на яркую среди зимы сочную траву, лоснящуюся под солнцем, на черных дроздов и самшитовый кустарник, поблескивающий роговицами жестких листьев.
В этот день Клавдия Александровна купила парниковых огурцов и заглянула в аптеку узнать на всякий случай, не появилось ли косточковое масло. Игорь Степанович, у которого внучка страдала аллергическим диатезом, просил привезти, и она чуть ли не каждый день заходила во все аптеки города в тщетных поисках — детский диатез стал повальным бедствием. Впрочем, Калачева всегда с интересом забегала в аптеки, подолгу разглядывая стеклянные прилавки, словно надеясь на эликсир молодости, который вдруг бы появился на ее счастье в продаже.
Так и теперь она вошла, как ребенок в детский мир, поправляя сбившиеся на ветру волосы, и с любопытством склонилась над стеклянным прилавком, над тем его отделом, где лежали коробки и пакеты с лекарственными травами. Увидела мяту и обрадовалась. Встала в очередь за мужчиной в распахнутом плаще, из-под ворота которого виднелся стоячий воротник офицерского кителя с ярко-голубым кантом, толстым, нашитым уже по изношенному, истершемуся канту неумелой рукой. Шея с двумя высоко расположенными поперечными складками, одна из которых подрезала жирный затылочный бугор на коротко стриженной седой голове. Клавдия Александровна чутьистым своим носом уловила неприятный капустный запах и отстранилась от соседа, который, когда подошла очередь, попросил таблетки пенталгина, на что ему любезная провизорша ответила, что это лекарство отпускается по рецепту.
— А где я возьму рецепт? Зачем такой формализм? Я старый человек, защитник вашего города, а мне даже не дают каких-то таблеток. Надругательство над старым человеком, и ничего больше… С таким неуважением я сталкиваюсь впервые, — скрипучим, скучным голосом говорил мужчина в кителе. — Неужели нельзя без рецепта? Я всегда брал без рецепта… Никакой заботы.
— Нельзя, — отвечала ему провизорша. — Я как раз и забочусь о вашем здоровье. Может, вам вредно. А рецепт в городской поликлинике. Пожалуйста, приходите с рецептом.
— Вы сугубо узко смотрите на жизнь, — продолжал мужчина однотонным, бесцветным голосом, не отходя от прилавка. — Лишь бы мне хорошо, а на остальных наплевать. Это сугубо узкий взгляд. Молодая, а такая формалистка.
— Я не формалистка. Я вас хорошо знаю, вы не первый раз приходите и требуете пенталгин. Я же помню вас! Тратите столько времени! Давно бы уже получили в поликлинике рецепт — и тогда пожалуйста. А то ведь ходите, ходите… Странно, честное слово! Оскорбляет еще, — говорила юная провизорша с тонкой, чувствительной кожей щек, которые зарделись свекольным соком, оттенив белизну лба и шеи, черноту возбужденных глаз. — Мы за это лекарство отчитываемся. Я вас слушаю, — обратилась она к Клавдии Александровне. — Что вам, женщина?