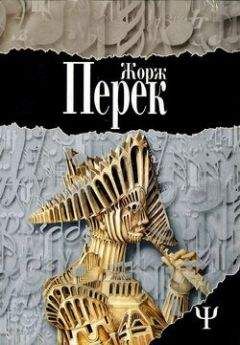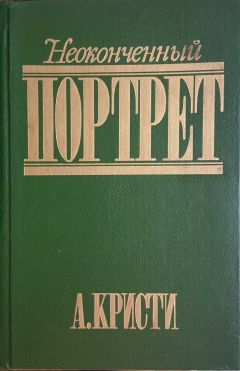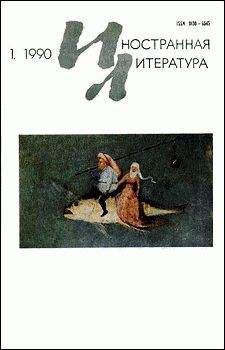Юрий Трифонов - Исчезновение
В аптеке на деревянной скамье сидела немолодая, невзрачная на вид женщина, смотрела испуганно. Увидев Николая Григорьевича, тотчас поднялась и – без улыбки – протянула руку. А рука-то была не Машина, грубая, красная, пальчики сморщенные, как морковки. И совсем ледяная.
– Ты озябла, что ли? – спросил Николай Григорьевич. – смотри, даже зубами стучишь...
– Нет, – сказала Маша с усилием. – Это я волновалась, что не увижу тебя. Думала, ты забыл меня или просто не придешь.
И вдруг улыбнулась, и он узнал ее.
На Маше было нелепое для мая клетчатое пальто с оторочкой из рыжего меха и такая же шапочка. Николай Григорьевич спросил, почему она не захотела зайти в дом, не позвонила хотя бы.
– А чего-то не понравилось, как меня постовой в подъезде выспрашивал: кто, да что, да к кому. – Она опять усмехнулась, но в глазах ее опять мелькнула тень испуга. – Лучше по улицам погуляем. Тем более праздник, иллюминация. Красота! Я всегда мечтала в Москву попасть на праздники. Сейчас на трамвае через Театральную площадь ехала, мимо Манежа – такая прелесть! Все сверкает, горит, как в театре, очень здорово.
– Погуляем, если хочешь, но потом все-таки зайдем ко мне.
– Ну, пожалуйста, хорошо. Зайдем к тебе. – Маша взяла его под руку. – А ты образцовый муж, Коля, да?
Она засмеялась. Он тоже засмеялся – ему стало вдруг легко и как-то забавно. Как будто он увидел что-то приятно знакомое и давным-давно забытое.
– О да! – сказал он. – Конечно.
– Зайдем, зайдем. Обязательно зайдем. Старшему твоему сколько?
– Двенадцатый год. Здоровенный архаровец, с тебя ростом.
– Значит, он родился, знаешь, когда? Как раз в том году, когда мы виделись с тобой в Алупке, да? Я была уже с Яшей, а ты играл в шахматы со Шварцем, Давидом Александровичем. – Она спросила быстро: – Шварц здоров?
– Да, – сказал он.
– Вот только с твоей супругой я не знакома. А вдруг ей не понравится, что я...
– Что?
– Ну вот так свалилась на праздники, не спросясь. Чужая тетка. Хотя... – Она сделала решительное движение кистью. – Мне важно тебя увидеть. А все остальное – ерунда.
Шли по улице в сторону Канавы. Маша сказала, что остановилась у дальней родственницы, которая сейчас болеет. Для нее и лекарство брала в аптеке. Сказала, что вчера разыскала Ванду, встретилась с ней, узнала про все ее невзгоды, несчастья, надежды. Значит, разошлись с Михаилом? Николай Григорьевич не знал твердо. Вроде бы разошлись, а вроде и нет: то опять вместе, то Михаил ночует на Арбате, то Ванда к нему ездит в Кратово. Валерку жалко во всей этой кутерьме. Но Маша из слов Ванды поняла, что разошлись окончательно. Комнатка на Арбате крохотная в огромной коммунальной квартире, где двадцать восемь соседей, шесть семей. Однако Ванда не унывает, надеется на перемену судьбы. У нее есть какой-то человек – да, да, Николай Григорьевич знает про человека, – какой-то дипломат, вдовец с двумя маленькими детьми. Ванда, конечно, сдала, располнела, но все еще красивая, милая, совсем седая, этакая маркиза восемнадцатого века. В тридцать семь лет вся седая! Но, как всегда, как двадцать лет назад, поразительное равнодушие ко всему, что не касается ее личности. Точнее говоря, ее личной жизни. Какая-то совершенно ветхозаветная и наивная аполитичность. Ничем не интересуется, ничего не знает. Вся в мечтах, в глупостях. Дипломат задурил ей голову, обещал, что на будущий год поедут во Францию, поселятся на Лазурном берегу, и она ни о чем другом не может ни говорить, ни думать. Волнуется, что не пустят за границу, потому что у нее во Франции старшая сестра с матерью. Словом, Ванда это Ванда, птичка божья. А Маша приехала в Москву только затем, чтоб увидеть Николая Григорьевича.
– Да ну? – Николай Григорьевич усмехнулся, будто не веря. Но уже догадывался, что она говорит правду.
– Потому что, Коля, ты единственный человек, который может объяснить. В прошлом месяце арестовали Яшу... – взяв за руку, она резким движением остановила его. И он вдруг вспомнил ее манеру двигаться резко. Они стояли на мосту через Канаву и, облокотясь на перила, смотрели на черную воду. Здесь, на мосту, было темновато, зато начало Полянки и особенно кинотеатр «Ударник» сияли иллюминацией. Толпа возле «Ударника» была озарена сверху ярко-белыми и розовыми снопами прожекторов и светом сотен висевших гирляндами лампочек. Дальше, на новом громадном мосту и на набережной Москвы-реки, тоже все пылало огнями.
Что он мог объяснить? Он слушал. Странные манипуляции производит с людьми время. Нет, не старение самое удивительное, не одряхление плоти, а перемены, которые происходят в составе души. И следов не осталось от той новочеркасской гимназистки, поклонницы Веры Холодной, сестры добровольца, только случайно не оказавшейся в Константинополе или в Париже. Перед Николаем Григорьевичем была советская дама, жена ответственного работника, рассуждавшая разумно и политически зрело. «Мне объявили, что Яша какой-то японский шпион. Ну, что за бред, прости господи? Что за ерунда собачья? Такого честнейшего человека, такого фанатичного коммуниста нет, наверно, на всей Владикавказской дороге. Я добилась через знакомых, очень сложным путем приема у работника, который ведет дело Яши, некоего Сахарнова. И оказалось, что это никакой не Сахарнов, а Борис Пчелинцев, приятель моего брата по Атаманскому училищу, я его отлично помню, сын войскового старшины. Я сразу его узнала, и он меня тоже. Конечно, он удивился, потому что я уже не Маркова, а Сливянская и он ожидал увидеть какую-то совсем другую Сливянскую. Я говорю: „Борис, я тебя умоляю разобраться в деле Якова Сливянского, моего мужа, честнейшего коммуниста...“ Он стал вдруг кричать: „Ваш муж японский шпион, мразь, провокатор!“ И что-то еще орал, орал. Не помню, как я оттуда ушла. Мне посоветовали уехать куда-нибудь. Отвезла детей к его родным в Каменку, и вот я здесь. Но я прошу не защиты, а объяснения. Что это все значит, Коля? Почему Пчелинцев сидит в краевом управлении, а Яша в тюрьме? Здесь, в Москве, чего-то не знают? Из моих знакомых арестованы девять человек. И самое страшное знаешь что? Все мы толстокожие, пока не коснется нашей шкуры. И я такая же сволочь. Пока Яшу не взяли, я думала: а шут его знает, может, Гончаренко в чем-то и замешан, и Федя Клепиков мог где-то оплошать, а Гнедов – из бывших офицеров, так что ничего странного. Ты понимаешь? Сейчас, наверное, Яшины знакомые думают: что ж, жена из казачьей семьи, сестра назаровца...
Николаю Григорьевичу за последние месяцы часто приходило то же на ум. Слишком легко верят в виновность других: в то, что «что-то есть», и чересчур спокойны за собственную персону. Это грозный факт, и он не предвещает добра. Но несчастной Маше говорить об этом не следует. Нужно успокоить. Только вот как?
– Я тебя столько лет не видела. Иногда слышала о тебе, мелькала твоя фамилия в газете... – Маша глядела, неуверенно улыбаясь. – Даже не знаю, как ты вообще... Может, ты иначе думаешь? Почему ты молчишь?
Николай Григорьевич видел эту женщину молодой. Поэтому он молчал. И все вокруг нее он видел молодым.
– Пойдем-ка домой. Попьем чайку и поговорим. – Он потянул ее за руку.
– Нет, постой! Сначала скажи: что ты думаешь обо всем этом?
Николай Григорьевич вздохнул. Ну, что он думает? Он думает, что власть не переменилась. И здесь в общих чертах знают о том, что происходит на местах. Однако знать – одно, а объяснить – другое. Нет, один Пчелинцев ничего не решает. Даже тысяча Пчелинцевых ничего не решает. Даже Флоринский, Арсюшка, который сейчас помощником у Ежова, – помнит ли она его по Ростову? Молодой такой идиот в красных немецких сапогах? – даже этот Арсюшка, находящийся сейчас на такой вышке, сам по себе ничего не значит. Николаю Григорьевичу кажется, что подоплека этих странных политических конвульсий – страус перед фашизмом. Возможна даже провокация со стороны фашизма. Влияние Гитлера несомненно. Других объяснений нет. А что же другое? Но должен быть конец. Не может же это длиться бесконечно, иначе все друг друга перегрызут. Волна идет на убыль, есть сведения, что кое-кого уже освобождают...
Маша обрадовалась.
– Правда? Освобождают?
Николай Григорьевич подтвердил. Он действительно слышал, что кто-то из старых партийцев, арестованных в феврале, недавно вернулся.
В тот вечер затащить Машу в дом не удалось – она спешила к больной родственнице. Но обещала в один из праздничных дней обязательно прийти.
Николай Григорьевич особенно не настаивал. Он замечал, как за последние годы гас интерес к людям, даже некогда близким. Круг становился все уже. Когда-то море людей окружало его, годы и города подполья, ссылок, войны бросали навстречу сотни редкостно прекрасных людей, которые на лету становились друзьями, но вот уже нет никого – они-то есть, но необходимость дружбы исчезла, – никого, кроме Давида, Мишки, еще двух или трех. И осталась в круге Лиза с детьми. Поэтому Маша, прилетевшая издалека, как воспоминание, не пробудила ничего, кроме деловых мыслей и привычной, грызущей время от времени где-то в середине груди, под сердцем, тяжести.