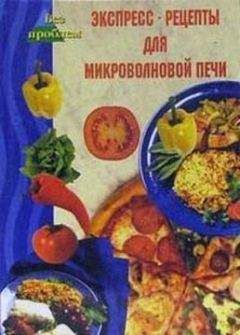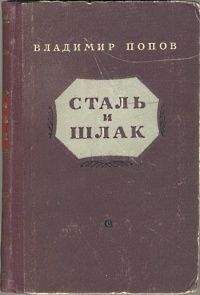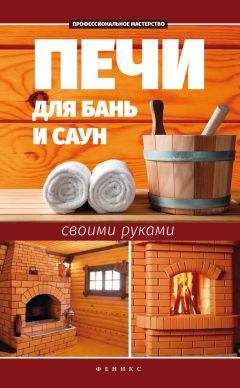Анатолий Маркуша - Грешные ангелы
Мрак, красное марево… голубое небо…
И все время тревога — направление? Темп? Скорость? Высота? Скорость?..
Я всегда мечтал: взлететь и, не думая об ограничениях, последствиях, объяснительных записках, остаться один на один с машиной… И вот этой сменой перегрузок, что туманят мозг, что лишают тебя веса, выразить свое отношение к нашему ремеслу.
Для чего? Не знаю. И, по правде, не хочу знать.
Для чего поют птицы? Для чего люди сочиняют музыку? Кому нужны рекорды на снежных трамплинах или в прыжках с шестом?
Может быть, сам человек для того и задуман, чтобы выражал себя в невозможном?!
Заканчивая пилотаж, я завязал двойную петлю и собирался уходить резким снижением, чтобы скрыться из глаз зрителей за темно-зеленым неровным краем соснового леса, но услышал в наушниках:
— «Клен-четыре», благодарю за работу. — Последовала маленькая пауза, и Суетин сказал: — Главнейший просит произвести посадку здесь.
— Вас понял. Исполняю, — ответил я. Проверил высоту. Нормально. Поддернул машину. Аккуратно перевернулся на спину и, энергично работая рулем высоты, стал выходить на посадочную глиссаду. Направление? Нормально…
Высота? Чуть снизить…
«Пора, шасси, — сказал я себе и тут же выпустил колеса. — Со щитками не спеши… Та-а-ак, теперь в самый раз…»
Мягко коснувшись бетона, Як пробежал что положено и вот-вот должен был остановиться, когда я услышал:
— «Клен-четыре», подрулите к шатру.
Открываю фонарь. Расстегиваю привязные ремни. Освобождаюсь от парашютных лямок…
Соображаю, глядя на блестящую трибуну, кому докладывать. И не могу решить. Тяжелое золото погон просто-таки подавляет меня.
Старший по званию, насколько удалось разглядеть, — маршал рода войск. Но каких? Не могу разобрать…
Импровизирую, играя на повышение:
— Товарищ Маршал Советского Союза, разрешите обратиться к гвардии генерал-лейтенанту Суетину! Он перебил меня:
— Обращайтесь, обращайтесь…
— Товарищ генерал, ваше задание выполнено. Докладывает…
И по тому, как Суетин досадливо махнул рукой, я понял: представляться и докладывать следовало наземному начальству. Видимо, для того меня и усадили здесь и велели подрулить к трибуне.
Тем не менее почетная трибуна приветствовала меня весьма сердечно.
Была задана куча вопросов: не страшно ли так низко летать, не кружится ли голова?.. Вежливо выслушав все слова, ответив на все вопросы, я отколол латунные крылышки военного летчика первого класса и, стараясь сделать как лучше, протянул их молодой женщине, стоявшей рядом с маршалом и белозубо мне улыбавшейся.
— Позвольте вручить на память?
— Если папочка не будет возражать, — сказала она кокетливо, — с большим удовольствием. И я, идиот, клюнул.
— Позвольте, товарищ маршал?
Он поглядел на меня из-под нависших бровей усталым взглядом и сказал ворчливо:
— Что именно позволить? Если вы собираетесь ухаживать за моей женой… то обычно на это разрешения не спрашивают.
Бочка меда — капля дегтя.
Небо над нами стояло синее-синее.
Зубы у женщины были перламутрово-ровные и белые.
Пилотаж, черт меня задери, получился!
Так где же деготь?
Всю жизнь, но особенно в детстве, меня ругали — я уже говорил об этом, — иногда гневно, иногда так… для порядка, чаще задело ругали, реже — зря. И никак я не мог приспособиться к «законному» порядку вещей: допустим, мне объясняют — разговаривать во время уроков с соседом по парте стыдно и плохо… Я должен при этом хлопать глазами, соглашаться и обещать исправиться, никогда больше не повторять. У меня так не получалось. Прав или не прав, я лез оправдываться, доказывать свое, и, как правило, ничего хорошего из этого не получалось.
Кто много говорит о любви к самокритике или уверяет, что жить не может без принципиальной товарищеской взыскательной критики, врет. Нормальный человек не может обожать осуждение, хотя бы и самое дружественное. Стерпеть, принять во внимание — куда ни шло, но не более. Нормальному человеку должно быть приятно слышать слова одобрения в свой адрес, слова сочувствия, тем более, хоть изредка, слова восторга.
Правда, я думаю, что каждый, поступая как-то не так, выпадая из общего ряда, нарушая принятые нормы, отлично понимает — он не прав. Сам понимает, без напоминаний…
Понимал это и я. И много раз старался начать совершенно новую жизнь: безошибочную!
Как мне это представлялось?
С первого числа буду делать физзарядку, говорил я себе, придумывал «железные клятвы» и ждал первого числа в твердой и совершенно искренней уверенности — начну полнейшее обновление. Но почему-то именно накануне заветной даты я заболевал, мне предписывалось лежать в постели. Никакой речи о физических нагрузках не могло быть… Потом я выздоравливал, надо было наверстывать упущенное в школе, и «старое» первое число приходилось переносить на другое, таившееся в туманной дали.
Или: дал себе твердое слово — бросаю курить! Казалось, будто врачи поглядывают с каким-то подозрением, а в авиации одного слова доктора достаточно, чтобы человек распрощался с полетами если не навсегда, то надолго. Короче говоря, я сам принимал решение: надо, пора отказываться от сигарет. В принципе все ясно…
А дальше? Вот отлетаем инспекторскую проверку, схожу в отпуск, вернусь отдохнувший, успокоенный морем и с первого числа брошу. Проходила инспекторская, проходил отпуск, я возвращался в часть, а там меня ждал приказ: «Назначить членом аварийной комиссии по расследованию катастрофы, имевшей место…»
И надо было лететь в соседний гарнизон, копаться в обломках вдребезги разнесенной машины, помногу часов напряженно опрашивать свидетелей, искать виновников… Словом, никому такой работенки не пожелаю, вся — на нервах.
Но приказ есть приказ.
И вот идет день за днем в предельном напряжении, как тут бросить?
А первое число — мимо.
Тем не менее новую жизнь я начал все-таки с первого числа. Правда, эту дату назначил не я. Первое число, можно сказать, догнало меня и поставило на новые рельсы.
Носов сдал полк. На его место пришел подполковник Шамрай. Худого сказать не могу: новый командир свое дело знал. Академию успел закончить в первом послевоенном выпуске, так что и практика и теория у него соответствовали требованиям.
Но отношения наши не заладились с первого числа.
На офицерском совещании Шамрай кругло и складно говорил о порядках, которые он собирался установить, и получалось, вроде новый хозяин все бывшее до него не поносит, но… полагает, надо начинать с нуля, заново.
В заключение он сказал:
— У кого, товарищи офицеры, есть вопросы?
Встав, как положено по уставу, назвавшись, я спросил:
— Как вы можете объяснить, товарищ подполковник, что полк при старых порядках сбил за время войны шестьсот тринадцать самолетов противника?
— Пока не могу, — ответил Шамрай.
И вот с этого момента отношения наши не заладились. Примерно через полгода командир пригласил меня к себе в кабинет и завел такой разговор:
— До меня дошло, Николай Николаевич, что вы стремитесь покинуть полк, так ли?
— Никаких официальных шагов я не…
— Помилуйте, разве ж я в осуждение! Просто хотелось бы знать, соответствует ли такое вашему желанию?
— В этом полку я отвоевал войну, здесь стал тем, кто есть.
— Понимаю и ценю. Но открылась, как мне кажется очень подходящая для вас вакансия. Приемщиком на завод не желаете?
Все во мне задрожало. Испытателем! Так какой же летчик откажется от такого счастья. Но виду не подал, спросил:
— Ваше предложение имеет адрес?
— Естественно. — И Шамрай назвал, правда, не завод, скорее солидные ремонтные мастерские, где приводились в порядок хорошо мне знакомые самолеты и двигатели.
— Подумать можно?
— Сутки, — усмехнулся Шамрай.
Первого числа я приступил к исполнению своих новых обязанностей.
Теперь я был сам себе начальником. То есть формально надо мной стояло достаточно много старших по должности и званию, но практически за все хорошее и плохое, что могло и обязательно должно было случаться, ответственность лежала на мне.
38
Наконец-то жизнь вошла в желанные берега. Ни тебе утренних построений, ни долгих предполетных подготовок, тем более — разборов полетов. Утром я приходил на свой заводик, узнавал, сколько машин готово к облету, что на них делалось накануне, составлял таблицу полетов, нес эту единственную официальную бумагу к главному инженеру, он, обычно не заглядывая, ставил подпись и всегда говорил одно и то же:
— Только, мил-друг, попрошу осторожненько! — и отпускал меня с миром.
Потом я летал, стараясь быть на самом деле осторожным: мне вовсе не хотелось лишаться этого сказочного места. После полетов я давал замечания по работе материальной части ведущему инженеру, механикам, заполнял отчет и был свободен.