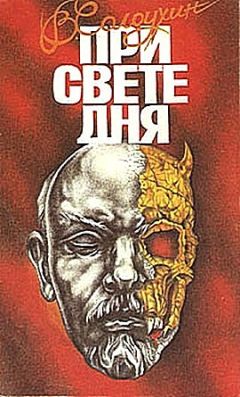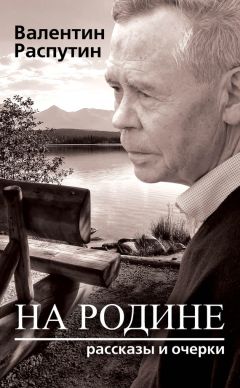Александр Серафимович - Железный поток. Морская душа. Зеленый луч
Вдруг неожиданно и странно:
— Правое плечо вперед!
И каждый раз, как подходит новая часть, с недоумением слышит:
— Правое плечо… правое… правое!..
Сначала удивленно, потом оживленной гурьбой сбегают на проселок. Он кремнист, без пыли, и видно, как торопливо сворачивают части, спускаются конные, и, со скрипом и грузно покачиваясь, съезжает обоз, двуколки. Открываются дали, перелески, голубые горы. Все судорожно-знойно трепещет безумное солнце. Мухи черными полчищами тоже сворачивают. Медленно оседающие облака пыли и удушливое молчание остаются на шоссе, а проселок оживает голосами, восклицаниями, смехом.
— Та куда нас?
— Мабуть, в лис отведуть, трохи горло перемочить, дуже пересмякло.
— Голова!.. В лиси тоби перину сготовилы, растягайся.
— Та пышок с каймаком напеклы.
— С маслом…
— Со смитаной…
— С мэдом…
— Та кавуна холодненького…
Высокий, костлявый, в изорванном, мокром от пота фраке, — и болтаются грязные кружевные остатки, из которых все лезет наружу, — сердито сплюнул тягучую слюну:
— Та цытьте вы, собаки… замолчить!
Злобно перетянул ремень, загнал живот под самые ребра и свирепо переложил с плеча на плечо отдавившую винтовку.
Хохот колыхнул густую тучу носившихся мух.
— Опанас, та що ж ты зад прикрыв, а передницу усю напоказ? Сдвинь портки с заду на перед, а то бабы у станицы не дадуть варэникив, — будут вид тебе морды воротить.
— Го-го-го… Хо-хо-хо…
— Хлопцы, а ей-бо, должно, днёвка.
— Та тут нияких станиц нэма, я же знаю.
— Що брехать. Вон от шаше столбы пишлы, телеграф. А куда ж вин, як не в станицу?
— Гей, кавалерия, що ж вы задаром хлеб едите, — грайте.
С лошади, покачивавшей на вьюке притороченный граммофон, с хрипотой понеслось:
Ку-да, куда-а-а… пш… пш… вы уда-ли-лись… пш… пш… ве-ес-ны-ы…
Понеслось среди зноя, среди черных колеблющихся мушиных туч, среди измученно, но весело шагающих, покрытых потом и белою мукою, изодранных, голых людей, и солнце смотрело с исступленным равнодушием. Горячим свинцом налитые, еле передвигающиеся ноги, а чей-то пересмякший высокий тенор начал:
А-а хо-зяй-ка до-бре зна-ла…
Да оборвалось — перехватило сухотой горло. Другие, такие же зноем охриплые голоса подхватили:
…Чо-го мо-скаль хо-че,
Тильки жда-ла ба-ра-ба-на,
Як вин за-тур-ко-че…
Почернелые лица повеселели, и в разных концах хоть и хрипло, но дружно подхватили тонкие и толстые голоса:
Як дож-да-лась ба-ра-ба-на,
«Слава ж то-би, бо-же!»
Та и ка-же мос-ка-ле-ви:
«Ва-ре-ни-кив, може?»
Аж пид-скочив мос-каль,
Та ни-ко-ли жда-ти:
«Лав-рении-ки, лав-рении-ки!»
Тай по-биг из ха-ты…
И долго вразбивку, нестройно, хрипло над толпой носилось:
…Ва-ре-ники!.. ва-ре-ни-ки!..
…Ку-у-да-а, ку-у-да… ве-ес-ны-ы мо-ей зла-тые дни-и…
— Э-э, глянь: батько!
Все, проходя, поворачивали головы и смотрели: да, он, все такой же: небольшой, коренастый, гриб с обвисшей грязной соломенной шляпой. Стоит, смотрит на них. И волосатая грудь смотрит из рваной, пропотелой, с отвисшим воротом гимнастерки. Обвисли отрепья, и выглядывают из рваных опорок потрескавшиеся ноги.
— Хлопцы, а наш батька дуже на бандита похож: в лиси встренься — сховаешься от ёго.
С любовью глядят и смеются.
А он пропускает мимо себя нестройные, ленивые, медленно гудящие толпы и сверлит маленькими неупускающими глазками, которые стали сини на железном лице.
«Да… орда, разбойная орда, — думает Кожух, — встренься зараз козаки, все пропало… Орда!..»
Ку-да-а… ку-да-а вы уда-ли-лись… пшш… пшш…
…Ва-ре-ни-ки!.. ва-ре-ни-ки!..
— Що таке? що таке? — побежало по толпам, погашая и «куда, куда…» и «вареники…».
Водворилось могильное молчание, полное гула шагов, и все головы повернулись, все глаза потянулись в одну сторону — в ту сторону, куда, как по нитке, уходили телеграфные столбы, становясь все меньше и меньше и пропадая в дрожащем зное тоненькими карандашами. На ближних четырех столбах неподвижно висело четыре голых человека. Черно кишели густо взлетающие мухи. Головы нагнуты, как будто молодыми подбородками прижимали прихватившую их петлю; оскаленные зубы; черные ямы выклеванных глаз. Из расклеванного живота тянулись ослизлозеленые внутренности. Палило солнце. Кожа, черно-иссеченная шомполами, полопалась. Воронье поднялось, расселось по верхушкам столбов, поглядывало боком вниз.
Четверо, а пятая… а на пятом была девушка с вырезанными грудями, голая и почернелая.
— Полк, сто-ой!..
На первом столбе белела прибитая бумага.
— Батальон, сто-ой!.. Рота, сто-ой!..
Так и пошло по колонне, замирая.
От этих пятерых плыло безмолвие и сладкий, приторный смрад.
Кожух снял изодранную, обвислую шляпу. И все, у кого были шапки, сняли. А у кого не было, сняли навернутую на голову солому, траву, ветки.
Палило солнце.
И смрад, сладкий смрад.
— Товарищи, дайте сюда.
Адъютант сорвал белевшую на столбе около мертвеца бумагу и подал. Кожух стиснул челюсти, и сквозь зубы пролезали слова:
— Товарищи, — и показал бумагу, которая на солнце ослепительно вырезалась белизной, — от генерала до вас. Генерал Покровский пишет: «Такой жестокой казни, как эти пятеро мерзавцев с Майкопского завода, будут преданы все, кто будет замечен в малейшем отношении к большевикам». — И стиснул челюсти. Помолчав, добавил — Ваши братья и… сестра.
И опять стиснул, не давая себе говорить — не о чем было говорить.
Тысячи блестящих глаз смотрели не мигая. Билось одно нечеловечески огромное сердце.
Из глазных ям капали черные капли. Плыл смрад.
В безмолвии погас звенящий зной, тонкое зуденье мушиных полчищ. Только могильное молчание да пряный смрад… Капали капли.
— Сми-ир-но!.. Шагом арш!..
Гул тяжелых шагов сразу сорвал тишину, ровно и мерно заполнил зной, как будто идет один человек несказанного роста, несказанной тяжести, и бьется одно огромное, нечеловечески огромное сердце.
Идут и, не замечая того, все ускоряют тяжело отдающийся шаг, идут все размашистее. Безумно смотрит солнце.
В первом взводе с правого фланга покачнулся с черненькими усиками, выронил винтовку, грохнулся. Лицо багрово вздулось, напружились жилы на шее, и глаза, красные, как мясо, закатились. Исступленно глядит солнце.
Никто не запнулся, не приостановился — уходили еще размашистее, еще торопливее, спеша и глядя вперед блестящими глазами, глядя в знойно трепещущую даль.
— Санитар!
Подъехала двуколка, подняли, положили, — солнце убило.
Прошли немного, повалился еще один, потом два.
— Двуколку!
Команда:
— Накройсь!
Кто имел, накрылись шапками. Иные развернули дамские зонтики. Кто не имел, на ходу хватали сухую траву, наворачивали вокруг маковки. На ходу рвали с себя потное, пропитанное пылью тряпье, стаскивали штаны, рвали на куски, покрывались по-бабьи платочками и шли гулко, тяжело, размашисто, мелькая голыми ногами, пожирая уходившее под ногами шоссе.
Кожух в бричке хочет догнать головную часть. Кучер, вывалив рачьи от жары глаза, сечет, оставляя потные полосы на крупах. Лошади, в мыле, бегут, но никак не могут обогнать, — все быстрее, все размашистее идут тяжелые ряды.
— Що воны, сказылись?.. Як зайцы, скачуть…
И опять сечет и дергает заморенных лошадей.
«Добре, диты, добре… — из-под насунутого на глаза черепа поглядывает Кожух, а глаза — голубая сталь. — Так по семьдесят верстов будэмо уходить в сутки…».
Он слезает и идет, напрягаясь, чтобы не отстать, и теряется в быстро, бесконечно, тяжело идущих рядах.
Столбы уходят вдаль, пустые, одинокие. Голова колонны свертывает вправо. И, когда поднимается на пустынное шоссе, опять неотвратимо встают и окутывают душные облака. Ничего не видно. Только тяжелый гул шагов, ровный, мерный, наполняет громадой удушливо волнующиеся облака, которые быстро катятся вперед.
А к оставленным столбам часть за частью подходит, останавливается.
Как мгла, наплывает, погашая звуки, могильная тишина. Командир читает генеральскую бумагу. Тысячи блестящих глаз глядят, не мигая, и бьется одним биением сердце, бьется одно невиданно огромное сердце.
Все так же неподвижны пятеро. Под петлями разлезлось почернелое мясо, забелели кости.
На верхушке столбов сидит воронье, бочком блестящим глазом поглядывает вниз. Стоит густой, сладкий до тошноты запах жареного мяса.
Потом мерным гулом отбивают шаг все быстрее; сами не замечая, без команды постепенно выравниваются в тяжелые тесные ряды. И идут, позабыв, с обнаженными головами, не видя ни уходящих, как по нитке, столбов, ни страшно коротких, резких до черноты полуденных теней, впиваясь искорками мучительно суженных глаз в далекое знойное трепетанье.