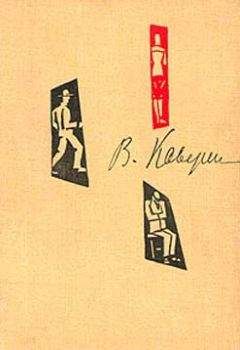Вениамин Каверин - Девять десятых судьбы
- Я знаю, что тут может помочь (старичок сердито запахнул шинель и уставился прямо в лицо Шахову тускловатыми, голубыми глазами). Сокращение! Сокращать, сокращать, сокращать, пока в министерствах не останется ни одного человека. Потом снова начать набирать и на этот раз уже по своей специальности.
- Это очень остроумно, - серьезно сказал Шахов.
Старичок обрадованно засмеялся и схватил его за пуговицу.
- И, ведь, для этого нужны самые незначительные суммы - какие-нибудь полторы-две тысячи, чтобы прокормить чиновников в течение этих двух дней, пока они будут сидеть дома и не ходить на службу. Тут может помешать только одно - беременность. Вы заметили, как много совершенно свободных беременных женщин открыто бродит по городу? Среди них масса чиновниц; они раздражительны и вероятнейшим образом будут протестовать.
- Да, да, да, - сказал Шахов, внимательно разглядывая крошечный носик и сизые усы военного.
Военный вдруг поманил его и загадочно моргнул глазами.
- А вы заметили, - сказал он шопотом, - что тут все дело в беременности? Я сам был свидетелем: всю революцию устроили исключительно беременные женщины. Им нельзя было не уступить, потому что они могут тут же выкинуть. Вы были тогда, в феврале, здесь, в Петрограде? Сплошь беременные, сплошь, и у каждой огромная красная тряпка, набитая на швабру. Они шли и трясли своими животами, и показывали на них пальцами, и били кулаками, как в барабаны. Что тут могла поделать полиция? При первом же залпе они бы все сразу и выкинули как по команде! Ну, и пришлось уступить!
Шахову вдруг стало страшно, он присмотрелся к тускловатым, бегающим глазам военного и отодвинулся от него.
- Это было устроено со знанием дела, - горячим шопотом продолжал военный, - за восемь месяцев перед этим рабочие под влиянием иноземцев все разом соединились со своими женами. Таким образом было достигнуто полнейшее единообразие демонстрации... А отсюда один шаг до путаницы министерств!
Шахов внезапно вскочил и бросился бежать от военного; он бежал, не оглядываясь, неловко взмахивая руками.
На Мойке, у Красного моста он остановился и с перекошенным лицом принялся обшаривать карманы.
- Боже мой, ведь я же его там обронил, у него, в номере... Должно быть, когда наклонился... Там же адрес есть, имя и на обороте... Да нет же, не может быть, чтобы у него, - я просто не взял с собою. У себя в номере оставил.
- У себя? - подумал он снова, усиливаясь стиснуть зубы, - да ведь мог же войти кто-нибудь, я, кажется, дверь оставил открытой.
Но и это тотчас же отошло куда-то и позабылось; он вдруг успокоился и неторопливо пошел вдоль набережной, ведя рукой по мокрой решетке и с детским любопытством стараясь, чтобы ни один железный стержень не миновал его руки.
Недалеко от Невского он встретил двух матросов, тащивших под руки пьяную проститутку; она что-то говорила, бессвязно хохоча и отталкивая их.
- Матросики, нет, нет! - выкрикивала она, - нет, нельзя! Нет, на это я не согласна! Нет, вы лучше Маньку, вы лучше Маньку возьмите!
Когда Шахов поравнялся с ними, ее вырвало, и матросы, отскочив в сторону, оставили ее одну; она пошатнулась, вздергиваясь, бессильно мотая головой, и упала на тротуар.
- Блюет, сволочь! - сказал один матрос другому и стал вытирать рукавом бушлат.
- А ну ее к.., - сказал другой.
Шахов прошел до угла Невского и, неожиданно для самого себя, повернулся и быстро побежал назад.
Матросов уже не было, проститутка лежала на мокром тротуаре, корчась, подгибая под себя ноги, тыкаясь лицом в рвоту.
Шахов посадил ее.
- Сволочи... кобели! - пробормотала она и запрокинула голову.
И это бледное, дрожащее лицо, запрокинутое навзничь, к свету, вдруг показалось Шахову другим лицом - "тогда, ночью, у Инженерного замка, под фонарем офицера".
С чувством, близким к отчаянию, он помог женщине встать и отряхнуть затрепанную жакетку, измаранную грязью и рвотой.
- Где вы живете?
- А что?.. Ты ко мне?.. Милый.
- Да, к тебе, - сурово сказал Шахов, - мы на извозчике поедем. Скажи адрес.
...............
Болтающаяся голова упала ему на плечо; он бережно поддерживал женщину.
Тяжелая спина стояла перед ним, и где-то между спиной и поднятым верхом пролетки качалось небо.
И забытая темнота и теснота пролетки напомнили Шахову какое-то другое время, стихи какие-то, студенчество, другую, еще до Галины, женщину, с которой он ехал вот точно также, слушая цоканье извозчика, придерживая ее за талию напряженной рукой.
И тотчас же он понял, что думает не о том, что все это только тушует иную мысль, ту самую, которая заставляет его проводить рукой по глазам, трогать виски, в которых тесно и быстро, как муха о стекло, бьется пульс.
- "Я свободен, наконец! Все кончено! Эта проклятая бумага, наконец, у меня"...
- Милый, - пробормотала женщина.
Он вдруг брезгливо отодвинулся от нее.
- "Никто не знает. Никто не видел нас вместе. Да и кто теперь будет искать? Нет, кончено, кончено"...
- Здесь, что ли?
Женщина открыла глаза и, стуча зубами, молча стала вылезать из пролетки. Шахов поднялся вместе с нею по скользкой, вонючей лестнице и через несколько минут вернулся обратно.
Всю дорогу, до самой Лиговки, он говорил с извозчиком, расспрашивая его о семье (извозчик жаловался ему, что ничего достать нельзя, что сено вздорожало, что старший сын на войне пропал без вести) и испытывал давно забытое чувство свободы и право распоряжаться собою, похожее на чувство легкости, свежести и пустоты, которое охватывает человека, только-что оправившегося от смертельной болезни.
В номерах он остановил коридорного мальчишку, которого встречал раз или два, и отдал ему какие-то деньги; перелетая через несколько ступенек сразу, он поднялся по лестнице и, пройдя освещенную часть коридора, отворил двери своей комнаты.
- В самом деле, ведь так и не запер, - с досадой подумал он, нажимая ручку.
Забыв внезапно, где в номере у него зажигался свет, он долго шарил по стене в поисках выключателя; наконец, нащупал выключатель и повернул стерженек.
В то же мгновение, широко открыв глаза, он сделал несколько шагов и бросился назад к двери, отрывисто закричав что-то и закрывая дрожащее лицо руками.
Посредине комнаты, почти в упор направляя на него дуло нагана, стоял Кривенко.
У него было неподвижное и тусклое лицо; и так же, как тогда в вагоне, во сне - над полосатой тельняшкой, между вагонных стен - наган, внезапно повисший в воздухе, поблескивал сиреневым отливом стали.
VII
На этот раз не было ни сумеречных гатчинских огней, ни позвякивания шпор и оружия, ни тревожного разговора за стеной, ни песни татарина у дверей.
Вокруг было пусто и глухо: вокруг не было ничего, кроме голых простреленных стен казармы.
Восемь дней тому назад под этими стенами грохотали орудия, и на узкой улице ворочались броневики; теперь не было слышно даже шагов прохожих, которые гулко (он это знал) отдаются в глухих переулках, и развлекают тех, кому ничего больше не остается делать, как развлекаться этими шагами.
Впрочем, человек, который был заперт в пустой казарме и на утро ждал суда над собой, которого должны были судить те, кому он охотно подарил бы свою жизнь и свое оружие, мог легко обойтись без этого печального развлечения. У него было пять, шесть или семь часов, которые никому не нужны: он может делать все, что угодно - ходить по казарме, смотреть в окно, разглядывать свои руки.
Он может разорвать свою рубаху на полосы и отыскать на стене гвоздь, который вбит достаточно высоко и сидит в стене достаточно крепко; он может думать - в конце концов это все, что ему нужно сейчас.
Он может думать об этой ночи в Зимнем, когда он наткнулся на узкую дверь, за которой бледный прапорщик, сползая по стене, еще тянулся за своим оброненным револьвером, и о другой ночи там, в Сельгилеве, когда неподалеку звенел и бился лагерь, и он смотрел на ночное милое лицо и прижимал к своему лицу маленькие белые руки.
И эта ночь, за которую он с радостью отдал бы всю остальную жизнь, никогда не повторится больше.
Так, именно так он должен умереть! Не в Мокотовской тюрьме, не на кронверке Варшавской цитадели по приговору военно-полевого суда, не от руки гвардейского офицера, политическими убеждениями подпиравшего личные счеты, а здесь среди этих простреленных стен казармы, по вине человека, который был ему другом и не мог поступить иначе.
Ему суждено было найти это письмо и встретить Шахова с револьвером в руках:
- Подними руки.
- Кривенко, ты?.. Ты прочел... Ты знаешь?
- Подними руки.
Он служил в армии, этот человек, он знает, где в солдатской шинели могут лежать бумаги: он отворачивает обшлаг рукава, и белый лист, на котором написано только десять строк и который равен смертному приговору, плавно опускается на пол...