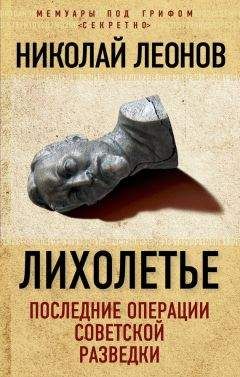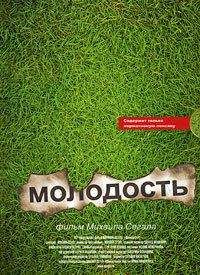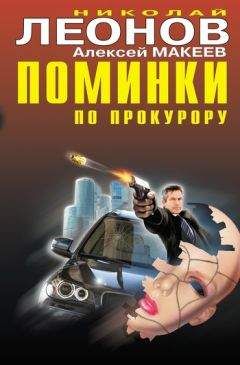Савелий Леонов - Молодость
Но все это были ничтожные мелочи. Главное заключалось в том, чтобы ехать, ехать, ехать…
Еще ни разу не испытывал Клепиков такого чувства одиночества, как после ранения Бритяка. Он уже не выступал больше на собраниях. Поражения, следовавшие одно за другим, лишили его друзей, почитания, славы.
И вот подоспела телеграмма: вызывали в Москву, в центральный комитет «левых» эсеров.
«Прочитали, конечно, мой доклад, — думал Клепиков. — Эх… Приятного мало — явиться в цека с разбитым НОСОМ…».
Однако за телеграмму ухватился. Спешил, нервничал, полный смутной надежды. Готовился к чему-то решающему…
— Ты не спи! — кричал сосед, придерживая, свои мешки, расползавшиеся на покатой крыше вагона. — Не спи, говорю, а то улетишь прямо к сатане в пекло! Чего скалишься? Видать, не привык эдаким макаром путешествовать?
— А тебя научили большевики? — злобно спросил
Клепиков, припоминая, что этого волосатого он где-то видел…
— Большевики меня отучивают, да поздно… Ведь я — дитя Хитрова рынка. Деньги есть, девки будут!
— Сейчас не разгуляешься…
— Хандришь, ваше благородие. Не порть мне прогулки. Вали на Дон, там атаман Краснов эдакими молодцами степь унавоживает!
Они смотрели друг на друга, точно волки перед схваткой. Сплюнув в темноту, мешочник отодвинулся и дразнил издали:
— Мотается всякая темная мелочь. Политика с аппендицитом!
Ветер дул «пассажирам» в спины, трепал воротники, срывал фуражки. Клепиков уже не мог привести в порядок расстроенные мысли. Закрыв глаза, кутаясь и слабея от нахлынувшей дремоты, медленно проваливался в пустоту.
Вдруг сильный толчок подкинул его на воздух. Клепиков инстинктивно уцепился обеими руками за острую жесть… И тотчас заметил, что лежит на краю крыши.
Мешочника рядом нет. Вероятно слетел… Судорога прошла по телу Клепикова, зубы выбивали частую дробь.
На первой же остановке Клепиков слез. Он чувствовал себя до того разбитым, что и не пытался уехать с этим поездом. Свалился на жесткий станционный диван и проспал до утра.
Очнувшись, долго не мог понять, как он попал в это помещение. Пустое, пыльное, оно казалось необитаемым. В закопченные, с частыми переплетами окна скупо пробивались солнечные лучи.
Клепиков поднялся и, стараясь не шуметь, направился к выходу. Угораздило же застрять в этой дыре!
Он стоял на перроне, оглядываясь, проклиная ночное происшествие, и почему-то никак не мог забыть черного волосатого мешочника. Прошел вдоль путей до семафора.
Всюду краснели разбитые за годы войны теплушки. Маленький, прихрамывающий паровозик оттаскивал их подальше, в тупик.
Мимо станции без остановки промчался товарный поезд. Клепиков посмотрел ему вслед и отчаянно затосковал. Все больше думал он о том, что ждет его впереди, какие новые унижения, неудачи.
«Будут ругать, — он снял фуражку, и голова, с прилипшими к вискам влажными смоляными косичками, закурилась легким аром. — Хорошо им сидеть в Москве! А попробовали бы сунуться в уезд — в эту черноземную пучину, кишащую беднотой, матросами, фронтовиками… Чужими-то руками и дурак сумеет жар загребать!»
Следующий поезд остановился. Пока паровоз набирал воду, Клепиков опять забрался на крышу. Раскинув циркулем ноги, там уже лежал «пассажир». Клепиков взглянул на его улыбающуюся волосатую физиономию и вздрогнул… Без сомненья, на солнышке грелось «дитя Хитрова рынка».
— Послушай, — обратился к нему Клепиков, — не с того ли света явился?
— Не шуми! — подмигнул мешочник, — поезд тронется, потолкуем.
— Нет, в самом деле… Как ты уцелел?
— Видать, покойная бабушка черту взятку дала. Они устроились рядом, забыв о ссоре. Когда поезд тронулся, мешочник начал:
— Откровенно говоря, это я по тебе поминки справлял. Ночью состав разлетелся под уклон… А ты спишь. Хотел я разбудить, кричу. Но грохот такой, что сам дьявол оглохнет. Мешки мои трясет, кидает в стороны. Потом от резкого торможения они вырвались у меня из рук и — тю-тю! Заодно и тебя махнуло… Капут! — думаю. — Отпетушилось их благородие! Некому теперь политикой заниматься! И поскорее спускаюсь вниз. На остановке слез и отмерил верст десять по шпалам, за мешками. — Нашёл?
— А куда им деться? Только порвались, убыток вышел. Однако собрал с песочком, — ничего. Москвичи ста ля неразборчивые… Ну, а заплачено за эти мешки дороговато — двух своих парней оставил я у хлебного эшелона…
— Значит, мы с тобой сели на одной станции? — Абсолютно так.
— Почему же я тебя не видел?
— У меня, такое правило: не показываться на глаза всякому дураку.
Клепиков метнул на соседа бешеный взгляд. Процедил сквозь зубы:
— Сволочь…
— Сейчас одни сволочи на крышах ездят, — невозмутимо ответил мешочник.
Клепиков больше не смотрел на него. Достал серебряный портсигар. Сосед попросил папироску. Он явно забавлялся. И вдруг сказал торжествуя:
— Решительно не узнаешь, стало быть, Николай Петрович?
— Что-о? Откуда ты меня… — Клепиков поперхнулся, смотрел на мешочника почти со страхом..
— Кожухова помнишь? — Неужели…
— Хорошенькая песенка начинается с этого слова:
Неужели, в самом деле,
Ах, неужели заберут?..
Клепиков, разглядывая бывшего сподвижника анархиста Бермана, расстрелянного ВЧК, качал головой: — Сильно, брат, изменился…
— Не очень. Эти тряпки, дорожная пыль и борода — для конспирации. Боюсь попасть в Чека. Не за мешочничество боюсь — за отрядные дела. Я ведь с Берманом до конца выкомаривал. И сейчас по старой дорожке хожу!
— Ты, кажется, напоследок украл в Совете, десять тысяч рублей и скрылся… — припомнил Клепиков.
Анархист залился веселым смехом, и Клепиков как-то сразу увидел под этой бутафорской внешностью прежнего остроносого и пронырливого Кожухова…
Поезд на большой скорости подходил к столице.
— Мы еще погуляем! — кричал Кожухов. — Да будет тебе известно, Николай Петрович, в Москве готовится буча… Мне это верный человек шепнул… Один из ваших «левых».
— Кто такой?
— Мой однокашник Протопопов. Не знаешь? Он сейчас большая шишка, помощник начальника отряда Всероссийской Чрезвычайки… Эх, кажись, поджидают нас у вокзала, Николай Петрович, — забеспокоился Кожухов, поглядывая вперед.
— Облава?
— В полном смысле.
— Так неужели боишься при таком однокашнике? Выручит.
Кожухов недоверчиво мотнул головой.
— В нашем блатном мире закон волчий: раненого своя стая разорвет на куски.
Перезванивая буферами и сотрясаясь, поезд остановился. Замелькали по сторонам черные штыки заградительного отряда.
Кожухов скользнул с мешками вниз, нырнул под вагоны, стоявшие на соседних путях.
Было около четырех часов дня. Москва томилась в духоте. Мостовые, которые никто не поливал, дышали жаром, словно печи. На деревьях висела почерневшая от пыли тяжелая листва.
Глава двадцать восьмая
— О! О! — за большим письменным столом, уставившись взглядом на дверь, сидел бородатый человек с крупными чертами лица: — получили телеграмму?
— Да. — Клепиков прикрыл дверь плотнее, и они обнялись.
С Прошьяном, одним из лидеров «левых» эсеров, Клепиков познакомился, когда сидел в тюрьме. Оба гордились этим, хотя и делали вид, что не время теперь предаваться воспоминаниям.
— Садитесь. Доклада вашего, признаться, я не читал. Некогда и незачем. Всюду одна и та же картина. Большевики не хотят делить власти; оттирают нас усиливают диктатуру. Дело, как говорят на Украине, вплотную подходит к гопаку…
Прошьян изрек все это почти весело, любуясь оборотами своей речи и облизывая кончиком языка полные губы.
Клепиков молчал. Он старался разгадать, что скрывалось за этой деланной веселостью. При последних словах он почувствовал легкий холодок под рубашкой.
Клепиков уже читал в газетах о поведении фракции «левых» эсеров на открывшемся Всероссийском съезде Советов. Тон был взят ультимативный. Требования отмены хлебной монополии, расформирования продотрядов, ликвидации комбедов, прекращения деятельности ревтрибуналов перемежались с явными угрозами. Камков, Карелин и другие призывали изгнать из Москвы германского посла Мирбаха и уговаривали красноармейцев вопреки воле командования начать наступление против немцев на Украине.
Московские гостиницы были переполнены приезжими… Носились слухи о возможном открытии параллельно со съездом Советов другого, так называемого крестьянского съезда. Этим съездом «левые» эсеры не раз грозили большевикам.
Прошьян пригласил Клепикова подкрепиться с дороги.
Когда они уже выходили из комнаты, зазвонил телефон. Прошьян неохотно вернулся к столу и взял трубку.