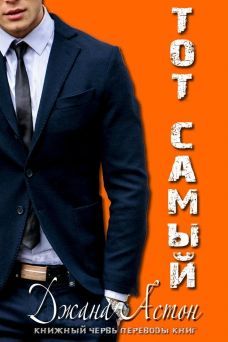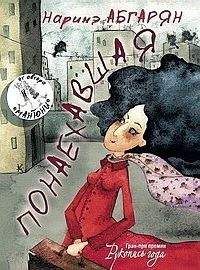Станислав Родионов - Вторая сущность
— Бывший автослесарь, а ныне пенсионер.
— А какое у вас образование?
— К чему тут образование, коли мы об уме говорим?
— Я к тому, — засуетился профессор, — что у меня есть молотый кофе. Вы, случаем, не кофейник?
— Нет, я чайник.
— Тогда вскипячу свеженького. Может, попутно и закусим?
Это можно. Достал профессор хлеб черствый, в полиэтиленовом мешке; яйца куриные, вкрутую, пяток; лук репчатый, проросший; ну и знакомую личность — красную рыбу мойву в банке. Чайник на электрической плитке зашумел уютно, да и за окном между тем смеркаться стало.
— Что вы, Николай Фадеевич, имеете в виду под сущностями?
Я растолковал. Кто, значит, в килограммах и метрах, в формулах и механизмах себя проявил — то есть в мире измеряемом, — тот имеет способности. А кто в человеческой душе разбирается да в людских отношениях, тот умен. За пример взял я шахматиста. Хоть он и головой работает, а всего лишь у него способности, поскольку строит умственные комбинации из фигур, — небось не отношения короля с королевой выясняет. Тот же всемирный ученый может быть неумным не потому, что мало знает, а потому, что его знания не о человеке и не о душе. А скажем, дядя Вася, водопроводчик, серый, как его рукавицы, вдруг да и порадует умными словами, поскольку изучил глубину людской жизни.
Говорю все вышеприведенное, и спесь не спесь, а спесиночка внутри играет, как у натурального дурака. Ведь сам профессор меня слушает — пусть и дятлоподобный, пусть и туркообразный.
— Слово «дурак» мне всегда казалось мещанским, — задумался профессор.
— А коли нет дураков, то и умных нет.
— А если допустить, что нет ни тех, ни других…
— Без умных, Аркадий Самсонович, жить я несогласный.
— Тогда проблема возникает, Николай Фадеевич, — обрадовался профессор, поскольку в этой проблеме вроде бы я и виноват. — Дураков не любят, верно? А разве они виноваты, что они дураки? Кроме того, есть не совсем дураки, но и не очень умные. И немало их. В конце концов, есть дети, животные… И мы их всех станем презирать?
Поддел меня профессор под самые рессоры, поскольку прав. В дураке больше всего злит то, что он про свою дурь не знает и не ведает. А мне сказать ему хочется. И нельзя. Да ведь и неизвестно, что людям нужнее — ум или жалость?
— А с другой стороны, Аркадий Самсонович, от дураков государству большой урон.
— Будем уповать на то, что все люди с годами умнеют.
— Как бы не так, — усомнился я. — Умный к старости мудреет, а глупый — хитреет.
Снедь мы всю умяли, включая рыбу мойву. Разговор наш подошел к закруглению. Приходите вечерком, угощу я вас чайком, а не хватит чаю, пива накачаю. Хорошо все было, только я возьми да и поинтересуйся:
— А другого профессора в деревне нету?
— Какого другого?
— Всамделишного.
— Как понять «всамделишного»?
— Который все знает. И про аистов…
Покраснел профессор вроде арбузного нутра — даже белая бородка порозовела. Нос в меня нацелил, как пику какую. Очки сверкают по-совиному. Язви его, то есть меня.
— Я, уважаемый, тридцать лет читал студентам лекции. Мною написано шесть монографий… Мои работы переведены на языки… У меня учеников больше, чем…
— Зачем психовать-то, Аркадий Самсонович? — перебил я. — Нету другого профессора, и не надо. И тобой обойдусь.
— Как это «обойдусь»?
— Так ведь ты, чай, не механизатор. А без профессора деревня не помрет.
— Значит, нажраться — и все?
— Сперва надо нажраться, — согласился я поспокойнее.
— А потом и профессора пригласить, на сытый желудок, э?
Он поднялся тяжело, вроде как чаю залил в себя до краев, и такую мерзкую рожу состроил, что и в мультфильме не увидишь. Да вдруг как гаркнет:
— Дурак!
Нешто всамделишный профессор такое бухнет? Тот, который про «летающие тарелки» рассказывал, — при галстуке — никого не обозвал, чай пил без чавканья…
— От дурака слышу, — ловко рубанул я, схватил зипун и вылетел из избы воробышком.
Видать, убедил я профессора — он дурачить всех начал.
4Если петух отличается от курицы, как, скажем, цыганская шаль от наволочки, то у белых аистов тут сплошная уравниловка. Правда, аист покрупнее. Голосистостью не только соловью, но и вороне в подметки не годится. Молчаливая птица, однако щелкает, как деревянными ложками стучит. Видать, понимают друг друга. В азбуке Морзе тоже ключом постукивают, а ведь переговариваются.
Потрудились они над гнездом. Метровую чашу соорудили из всякой мелочишки. Теперь аистиха уже не отлучалась — сидела как привязанная.
— Лягушек ей наловить, что ли? — спросил я как бы у себя.
— Иди, посмеши деревню, — поддакнул Паша, умываясь после своих поросят. — Вроде Фердинанда…
— Какого Фердинанда?
— Есть у нас такой…
— Конь, что ли?
— Парень тертый, Федька Лычин, а Федькой зваться не желает.
— Почему?
— Некультурно, видишь ли, бабка-ёжка.
— А лягушки при чем?
— Тем летом он с мешком ползал вокруг деревни, лягух отлавливал. Говорил, ученые ему по полтиннику за штуку платили…
Поскольку теперь я был за кухонного мужика, то варить, кормить и кастрюли мыть выпало мне. Вроде дневального. Паша у меня, как персидский шах, сидит и супа ждет.
— Однако этот Фердинанд окрутил Наташку Долишную.
— Родственницу Гришки Долишного?
— Внучку.
— Как окрутил-то? — появился у меня интерес.
— Замуж сговорил.
— Так оно, может, и неплохо?
— Чего, бабка-ёжка? Ей двадцать, а ему тридцать. Да и не в том главное — мужик он дерьмовый, жиже некуда. Хапуга первый сорт. Девку жалко.
— Может, у нее любовь…
— Любовь не аванец, в карман не схоронишь. Мы бы видели.
— Тогда надо разобраться.
— Кому разбираться-то?
— Кому… фронтовикам.
Отварив, откормив и отчистив кастрюли, вышел я на улицу и двинулся вдоль, имея в виду один дом, напротив колодца. Да ведь бывал я у Долишного при его жизни, вспомнил путь по ходу дела.
У избы соседки, Анны, меня подзадержала береза. Розовеет корой в закатном солнышке, как женщина в сарафане. Листья еще только вылезли, а ветки уже шелестят и вроде бы отталкивают ветерок от своего розового тела, — мол, не прикасайся. Ну что мне в этой березе…
Встречал чудеса почище. Машину видел такую: спросишь — ответит, только все письменно. На самолетах летал, которые пересекают Союз с севера на юг за четыре часа, да плюс выдавали курицу с кофеем. Дом тыщеквартирный, где проживаю, — не дом, а скала из бетона, арматуры и стекла, к тому ж два лифта и сплошная телефонизация с ваннами и газом, да в некоторых квартирах есть и черт в ступе. Или телевизионная башня: как ее построили, почему она не падает?
Бывало, смотрю на все на вышеперечисленное, и мозги мои идут набекрень от удивления. Но сердце спокойно, не стукнет. А тут береза простая, из которой веники банные вяжут, — и екнуло, и зашлось в груди до туманности в глазах. Чего это… Телебашня ведь облака задевает. Или дело в том, что оба мы, я с березой, произошли от земли… Живые мы с березой оба — от этого все…
В деревне, куда б ни шел, а колодец не минуешь. Сруб высокий, под крышей, ворот прочный, цепь железная. И, как положено, девица воду черпает, но, правда, без коромысла.
— Чего ж без коромысла? — спросил я в порядке вежливости.
— Живу тут рядом, — усмехнулась она моему незнайству.
— Наталья Долишная? — догадался я.
— Да. А вы кто?
— А я Николай Фадеевич, друг твоего деда и Павла Ватажникова.
— Ой, вспомнила. Вы к нам приходили…
— Как не приходить — приходил.
Тонкая не по-деревенски. Натуральная чернобурка. Волосы черно-бурые, видать, крашеные, и заворочены в крупные кольца так, что сквозь них солнце блестит, как сквозь дырки. Ничего, лишь бы голова не была дырявой. Но лицо наше, новгородское, то есть кругленькое, беленькое и при улыбке с ямочками.
— Вы в гости приехали?
— В гости, а теперь нахожусь в разведке.
— В какой разведке?
— Хочу разведать, в счастье ли проживает внучка фронтовика Григория Долишного.
Ждал, что захихикает. Но она как-то подобралась, будто с экзаменом нагрянули.
— Пойдемте в избу…
— На свежем-то воздухе голова яснее.
Она поставила второе ведро рядком с первым, и получилась, я бы сказал, картина из картин: травка новорожденная, вода глубинная светлее неба, колодец рубленый, и девица-краса рядом, правда, с волосами, чуть подпорченными красителем.
— А в чем оно, счастье-то? — спросила Наташка как бы не у меня, а у ведер.
Как говорили в моей деревне, оказался я опешимши, то есть опешил. О чем спрашивают, того не имеют.
— Как же ты, Наталья, вступая в жизнь, не ведаешь о главном?
— Это я так, болтаю, как с посторонним. — Она тряхнула своими куделями.