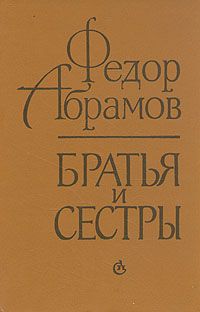Федор Абрамов - Дом
На ходу расстегивая ворот запотелой рубахи, он подошел к столу, выпил три стакана теплой, нагретой на солнце воды из графина.
– С похорон иду.
– С похорон?
– Да. Смотрел, как поля у нас хоронят. Таборский покачал лысеющей головой.
– Так. Все ясно: народный контроль. А конкретнее?
– Конкретнее? А конкретнее караул кричать надо! С тебя, к примеру, шкуру содрать – долго протянешь? А мы что с полями делаем? Разве не ту же шкуру кажинный год с их сдираем? – И тут Михаил хватил еще один стакан тепловатой воды и понесся, как конь под гору: все выложил – и то, что только что видел в навинах, и то, что думает по этому поводу.
А Таборский? Что сделал Таборский? Кинулся в навины, чтобы немедля остановить пахоту? В район стал названивать? Тревогу бить?
Таборский сказал:
– Механизаторов, Пряслин, советую не трогать. В данный момент, когда специалисты отделения только что высказали свои критические замечания в твой адрес, твое заявление знаешь как можно расценивать? Подумай, подумай хорошенько. А что касаемо навин, не беспокойся. Партия маленько пораньше нас с тобой подумала. Слыхал про постановление насчет Нечерноземной зоны? Вторая целина, миллиарды большие выделены. Так что очередь дойдет и до нас. Придет время – раскорчуем все эти навины.
– А сами-то мы будем, нет что делать? Але сложа руки будем сидеть да ждать, пока очередь дойдет до нас?
– Сами мы, Пряслин, постановления партии выполнять будем. План. А план – знаешь, что это такое? Железный закон – нашей жизни…
– Да что ты мне на трибуну вылез?
– Спокойно, спокойно, Пряслин. Нервные клетки не восстанавливаются…
Михаил больше не слушал: Таборский за день не уробился – сейчас ему одно удовольствие языком почесать.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Не мала деревня Пекашино – на три версты по горе вытянулась и народу как в Китае. Одних мужиков до четырех десятков собирается по утрам на разводе. Рублик-батюшко всему причина. Как перевели на совхозы Пинегу да стали платить северные, так и покатил мужик в деревню.
Да, народу ныне в Пекашине полно, а к кому зайти? С кем отвести душу?
Раньше бы минуты не раздумывал: к Петру Жи-тову. Уж он, Петр Житов, рассудит все как надо, по полочкам все разложит. А теперь к Петру Житову если и можно зайти, то только с бутылкой: совсем с панталыку сбился человек.
По той же причине Михаил отверг и своих старых дружков-приятелей Аркадия Яковлева, Игната Поздеева и Филю-петуха. И с ними без бутылки не состыкуешься. Да и на хрен им сдались какие-то навины! Хлеба что ли, в сельпо тебе не хватает, скажут?
А может, до старого дома прогуляться да с братом Петром потолковать? Грамотный, с высшим образованием – должен в политике разбираться, а потом свой, одна кровь: без опаски, на всю катушку, как говорится, разматывайся.
Нет, сказал себе Михаил, зря ноги наминать. Как же с Петром про политику, про Россию толковать, когда Петр не может вбить в башку дорогой сестрице такого пустяка насчет дома, как суд? Ведь те скоты, ежели делу не дать законного хода, не сегодня – завтра дом на распыл пустят.
Пошел к своему соседу. Не хотелось бы мучить старика, болен Калина Иванович, редкий день "скорая помощь" из района не приходит, да ежели ему сейчас не выговориться – взорвется. Взорвется, как котел, переполненный парами: столько всякой накипи, столько всякой неразберихи скопилось в сердце.
2 Из жития Евдокии-великомученицыУ Дунаевых с ходу крыльцо не возьмешь: впокат, вперекос и ступеньки и верхний настил, так что хочешь не хочешь, а начнешь иматься руками за стену.
Но крыльцо хоть по видимости крыльцо, а про сени и того не скажешь. Пола и потолка нет. От ворот лесенка – как в яму, как в погреб спускаешься, затем доски, прямо на землю набросаны, затем опять лесенка и только после этого дверь в избу.
Яркий, ослепительный свет ударил Михаилу в глаза – вся изба была залита вечерним солнцем, – но брата Петра он увидел сразу.
Обида, гнев взыграли в нем. Он десять раз сперва подумает, прежде чем зайти к старику – болен же человек, как не понять этого! – а тут не стесняются, прут, когда вздумается.
– А гостей-то, думаю, можно и побоку, раз неможем! Ты-то куда смотришь?
Евдокия – она сидела с шитьем у стола – сердито кивнула в сторону лежавшего на койке мужа:
– На его громы-то мечи! Я, что ли, всю жизнь двери нараспашку держу?
– Гость мне не помеха, – сказал Калина Иванович и откашлялся. – У нас тут интересный разговор идет. Про жизнь в космосе, на других планетах.
– Во-во! Про жизнь в космосе, на других планетах. Очень интересно! А то, что на русской планете делается, – плевать?
Калина Иванович и Петр – оба с удивлением уставились на него, и Михаил, уже выходя из себя, закричал:
– Не ясно выражаюсь? Кустарником, говорю, все кругом заросло, людей скоро кустарник топтать будет, а Таборский мне знаешь что на это? "Береги нервные клетки, Пряслин… Постановление есть… Вторую целину подымать будем…"
– Да, я читал об этом, – сразу оживился Калина Иванович: на политику, на любимую тропку вышли. – Большая программа работ…
– Программа-то большая, я тоже читал. Да почему ее делать надо было? Да мы, бывало, в войну у Сухого болота сеяли. А сегодня от Сухого болота до Широкого холма прошел – что видел, кроме кустов?
– Господи, нашел с кем из-за навин слезы проливать. Кой черт ему пекашинские-то навины! Да он забыл, когда там и был. Вот кабы ты про революцию, про Китай заговорил, вот тогда бы он распелся…
– Моя жена, как всегда, меня разоблачает, – пошутил Калина Иванович.
– Да как тебя не разоблачать-то? Тебя не разоблачать да за ноги не держать – с голоду подохнешь. Ты ведь как журавей: все в небе, все в небе. На землю-то спускаешься исть, да пить, да навоз сбросить.
На это Калина Иванович хотел было что-то возразить, но Евдокия не стала дожидаться.
– Молчи, молчи! Разве неправду говорю? У тебя и отец такой был. Зря, что ли, Иванушко-шатун звали? Шатун… Всю жизнь по святым местам шатался, праведной жизни искал. Домой-то только на зиму и отъявлялся. Придет, зиму отлежится, ребенка жонке заделает, а чуть солнышко пригрело, снег стаял опять в поход, опять в шатанье. Жена дура была почище меня. Я всю жизнь страдаю из-за этого лешего, по всему свету за им таскаюсь, а та дура опять всю жизнь провожала. Со всем выводком, бывало, из дому выйдет. Да еще в брюхе ребенок, да на плече котомка… А он налегке. Идет, вышагивает с батогом, как пророк… Слова не обронит. Как же, на великое дело собрался монастырям иду пороги обивать… А как тут будет жена с бороной малых ребят – не его дело. Нет думушки о доме. И мой такой же! Шатунова завода. Всю жизнь у нас наперекосяк: он из дому, я в дом… – Евдокия гневными глазами обвела старую избу. – Вишь ведь, в каких палатах на старости лет живем. А пошто? Дом некак построить? Деньгами сбиться не мог, ребята малы одолели? Да после гражданской все льготы, все послабленья красным партизанам. Лес руби самолучший. Задаром. Стройся, живи как душеньке угодно. Твоя власть, твое время пришло. Люди-то – пройди-ко по деревням – дворцы, а не дома настроили. А моему разве до дому? Говорю, отец шатуном всю жизнь прожил и сын на ту же меть…
– Да, я за свой дом не держался, – сказал Калина Иванович. – Мне вся страна домом была.
– Слыхали, слыхали? Вся страна ему домом… А живешь-то ты где? Где спишь, ночуешь, от дождя, от снега укрываешься? Во всей стране?.. Ох и поносило же нас, помытарило по этой стране! И где мы только не были, чего не видали, чего не делали! Трактора строили, советскую власть киргизцам подымали, капиталистов-сволочей улещали, с клопами насмерть воевали…
– С клопами? – недоверчиво переспросил Петр и посмотрел на Михаила.
– А как ты думал? Раз социализм строим – и клопов нема? – Михаил рассмеялся: он все-таки успокоился к этому времени. Его всегда как-то успокаивала своими рассказами Евдокия.
– Ох, этих клопов что тогда было – жуть! Кабы в бараках там, на вокзалах – ладно. В вагонах клопы. Мы с Архангельска до Сталинграда месяц попадали – вот как тогда по железным-то дорогам было ездить – загрызли клопы. Ничего, думаем, нам бы до места добраться, а там отстанут, дьяволы, отдохнем…
Михаил кивнул в сторону Петра:
– Ты объясни ему, зачем вы в Сталинград-то поехали.
– Трактора строить, сицилизм. Я, из коммуны выползли, – поедем домой, Калина. Сколько еще будем маяться на чужой стороне? А он – в газетах вычитал, всю жизнь по газете живет: "На самый ударный фронт поедем. Трактора строить". А какие от нас трактора? Я неграмотная, он железа, кроме ружья, в жизни в руках не держал. Трактора-то строить не команды подавать. Вот и бери лопату да корми клопов в бараке. Ох, сколько клопов тогда этих было, дак и страхи страшные. Вологодские, архангельские, сибирские, от киргизцев… Со всех сторон люди съехались. Я уж об себе не думаю: жорите, паразиты, стерплю, да, думаю, я ребенка-то нарушу. За ночь-то на стенах набьют-надавят – ручьями кровь. Красные стены-то.