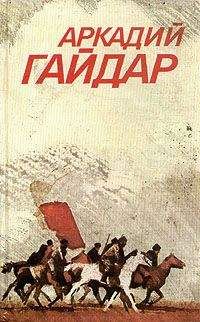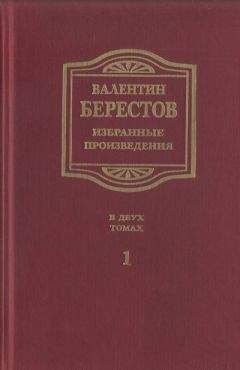Юрий Нагибин - Поездка на острова. Повести и рассказы
— Чьи это стихи, не помните: «Шел с веслом, как с посохом, по морю, как по суху»? — спросил Чугуев.
— Чьи, не помню, но точно — о нас! — отозвался Тютчев.
Они вошли в ситу, и Чугуев стал хвататься за круглые стебли и подтягивать лодку. Неожиданно перед ними открылась полоса чистой воды, тугая синяя лента. Тютчев отложил шест и взялся за кормовое весло. Вода зажурчала под носом лодки. Сзади послышалась жалобная брань Обросова.
На береговом бугре открылась Лазаревка, по местным масштабам прямо-таки огромное село, с множеством улочек и проулочков, с огородами и фруктовыми садами. Блестели золотые купола и кресты церкви, там шуровала по своему сокровенному делу зеленоглазая длинноногая девчонка. На лугу, за околицей, пестрело стадо черно-белых остфризов. Ни одной утки не было видно в дымно-голубом, чуть лиловатом по горизонту небе. Солнце стояло высоко, и казалось, ему не поспеть к часу заката на положенное место.
Перед тем как оставить ленту чистой воды и вновь вломиться в зеленую чашу, они увидели в устье впадающей в озеро речушки, на большом пне, отвалившемся от берега с глыбой рыжей земли, бесстрашного рыболова. Балансируя над темной пучиной, рыболов закидывал на проводку тонкую и длинную немецкую удочку. За ним уходил в перспективу зеленый тоннель: склонившиеся над водой с того и другого берега ракиты сплели кроны, образовав долгий свод. Рыболов скользнул по охотникам равнодушным взглядом и ничем не обнаружил, что узнал. Это был Михаил Афанасьевич, шофер.
— Ловок! — одобрил Тютчев. — Первый раз здесь, а лучшее место занял.
— Он заядлый!..
Они опять двигались по траве, ползли, можно сказать. Вода вовсе не проглядывалась. Лишь изредка из-под днища лодки выжималась какая-то дегтярная жижа. Тютчев скинул ватник, потом снял меховой жилет.
— Стриптиз продолжается! — сообщил он через некоторое время и стянул шерстяную рубашку.
Чугуеву было совестно, что он не может взять шест: всякого рода резкие движения были ему категорически запрещены. Тютчев снял еще одну рубашку, на этот раз трикотажную, и остался в теплом белье.
— Может, я зря ругаюсь? — донеслось из зарослей. — Может, тебе надо лечиться и отдыхать, а мы спрашиваем с тебя, как со здорового? Может, нам не хватает чуткости к живому человеку? — зудел Обросов.
— Да чего ты привязался? — миролюбиво говорил Пыжиков. — Я все делаю, как надо!
— Зачем ты сюда залез, а не шел краем, где ушки? Там наверняка сидят крякуши. Но ты скорбен разумом. Ты когда именины празднуешь?
— На своего святого, как положено.
— Во-первых, члену партии это не положено, во-вторых, ты должен праздновать в день усекновения главы. Слушай, а может, ты вовсе не глупый? Может, ты хитрая морда? Или тебя Тютчев подучил?
— Как подучил?
— Не притворяйся! У тебя не получается. Друзья природы, так вас перетак! А я все равно буду стрелять, и все!
— Наговариваешь, Никандрыч! — бодрым, беспечальным голосом здорового, довольного собой человека сказал Пыжиков. — Никогда ты себе этого не позволишь!
— Черти правильные! — горевал Обросов. — Черти сознательные! Черти выдержанные!
Голоса внезапно отсеклись, видимо, лодка отвернула от ветра, доносившего разговор друзей.
Снова возникло пятно чистой воды, дальше был берег, поросший орешником. Куда ни глянь, всюду белели стебли надерганных ушков, значит, жди уток на вечерке.
— Здесь мы и встанем, — сказал Тютчев. — Будем с одной лодки охотиться. Ну да мы друг другу не помешаем. Глядите, уже шестой час, а ни одного выстрела не было.
— Дисциплинированный народ!
— Прямо не верится… Может, уток не видать?
Первый выстрел раздался в стороне Могучего, он был похож на удар валька. Потом в окрестности сотворился какой-то шорох — слабый, далекий раскат. Часы показывали без пяти шесть. Все-таки охотничье нетерпение чуть-чуть нарушило установленный срок. Вскоре еще несколько деревянных, тупых ударов донеслось и с Могучего и с Кукушкиной заводи, с Буяна и Серебряного. Заговорила вся Мшара, лишь Тучковское озеро молчало, и, надо полагать, не из чрезмерной щепетильности охотников — просто не на что было порох тратить. Чугуев снова взглянул на часы — две минуты седьмого. Он как-то смешно возмутился, словно утки нарушили некое товарищеское соглашение. Да ведь предписанные сроки обязательны лишь для охотников — не для дичи.
Чугуев поднялся, держась за тростник, и оглянул небо. Далеко и очень высоко тянула стая: десяток крякв и чирков. Ну и ну, такой пустоты еще не бывало на открытии охоты! И тут хлопнул выстрел, за ним второй — классический дуплет. Стреляли где-то совсем рядом, и Чугуев невольно ссутулился, готовый принять на себя осыпь дроби. Но уже в миг безотчетного движения он знал, что стреляют на большом расстоянии, кажущаяся близость выстрела — звуковой обман.
— Харламов дает! — завистливо сказал Тютчев.
И сколько потом ни звучало выстрелов, он почти всякий раз говорил: «Харламов дает!» А звучали выстрелы то громче, то тише, то поблизости, то в отдалении. Видимо, акустические шалости объяснялись ветром, действительно крепко задувшим к вечеру, но как-то неровно, порывами. Ветер подсказал Чугуеву огорчительное открытие: Харламов, несомненно, занял ключевую позицию на самом перекрестке утиных путей, и, принимая во внимание меткость и сноровку этого стрелка, уток здесь не жди. Попутно выяснилось, что стена рослого тростника за их спиной не только препятствует обзору озера, но и закрывает закат. Значит, для них ночь наступит скоро…
От огорчения ли он занедужил, то ли притаившееся недомогание заставило его принять так близко к сердцу охотничью неудачу?.. Любое нездоровье начиналось у него с ощущения, напоминающего изжогу, хотя оно и не было изжогой, — какое-то странное жжение в груди. Кто-то сказал ему однажды, будто существует сердечная изжога, правда ли это? Почему, болея, он постарался сохранить все свое невежество в отношении собственной болезни да и медицины вообще? Из боязни пробудить в себе мнительность или из нежелания обременять душу неисцеляющими знаниями? Довольно, лучше думать о чем-нибудь другом. Например, о том, что уже показалась полная белая луна. Он опять попал на охоту в полнолуние, как и год назад. Но тогда под луной была громадная озерная гладь, а не узенькая полоска воды и заросший кустами берег, и луна, сперва порозовевшая от заката, а затем налившаяся золотом, погрузила в воду золотую колонну. Не полосу, трепещущий отсвет, а колонну с отчетливой округлостью тяжкого, плотного тела. И по мере того, как луна подымалась, колонна наращивалась и подступала к нему. Это было странно: она словно уходила в глубь озера и вместе простиралась по воде, чтобы через миг-другой упереться в островок, на котором он сидел. Но этого не случилось, и он пропустил мгновение, когда колонна вдруг резко укоротилась, будто ее оборвали с двух концов, и вскоре стала желтым кругляшом, простым отражением лунной рожи. Сейчас никаких лунных игр не будет, потому что узенькая полоска воды между ними и берегом — слишком бедное зеркало…
Ему стало совсем худо. И самое мучительное — он не мог дать себе отчета, что у него болит. Болело от горла до подбрюшья, изнывал в непонятном повреждении самый ствол жизни, иначе не скажешь, ибо не было отчетливого очага боли.
Но, как ни худо ему было, он не проворонил стаи, вынесшейся из-за спины метрах в шестидесяти над водой. Высоковато, конечно, в другой раз он не стал бы стрелять, да ведь нельзя же вернуться без выстрела с открытия охоты. Он вскинул ружье, выстрелил и с блаженно обмершим сердцем увидел, как от стаи «отломилась» утка. Не прекращая взмахивать крыльями, утка резко теряла высоту, у самой воды косо пошла вниз и не опустилась, а плюхнулась на воду, подпрыгнула мячиком и замерла в сидячем положении.
— Алексей Борисыч, разрешите добить? — вежливо попросил Тютчев: утка упала по его руку.
Чугуев не мог отказать ему в этом маленьком удовольствии. Тютчев выстрелил, не целясь, и дробь точно легла по темному живому комочку. Утка забила одним крылом и устремилась к берегу.
— Как бы не ушла! — сказал Чугуев.
— Никуда не денется… А хотите, заберем…
Ответ Чугуева потонул в громе выстрела. Он и не заметил, как Тютчев успел вскинуть ружье.
— Надо же! — привычно удивился Тютчев. — Прямо под носом села.
— Кто?
— Матерка.
Тютчев толкнул веслом, они выплыли из тени камыша на светлую воду, почувствовали свежесть ее легкого кура и увидели распластавшуюся в листьях кувшинок крякву. Чугуевскую утку найти оказалось куда сложнее. Они долго обшаривали прибрежные заросли, прежде чем обнаружили ее под кустом. Утка сидела, сгорбившись, и глядела живым золотистым глазом.
— Надо же! — Тютчев поднял весло, примерился. — До чего же помирать не хочет!