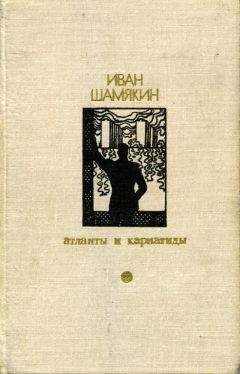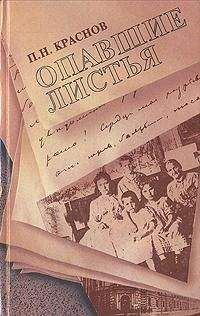Иван Шамякин - Атланты и кариатиды
Схватив сало, синицы вспорхнули на березу.
Максим проводил их ласковым взглядом и вздохнул. Снова проснулось то, о чем и вчера вечером и особенно сегодня, когда с утра увидел, какая красота на дворе, приказал себе не думать, не вспоминать. Взял лопату, чтоб отгребать снег, но не сразу решился коснуться этой первозданной чистоты. Стоял, смотрел, как садятся снежинки одна за другой, искрятся, и даже в это хмурое утро каждая из них переливается радугой. Над головой опять пролетели синицы. Просили еще угощенья. И Максим невольно подумал, что даже птица понимает доброту и ласку… Про Дашу подумал. Со злостью, какой, кажется, не испытывал еще ни разу.
Вернувшись из Минска, он с вокзала отправился в горсовет, где за день переделал бесчисленное множество дел, накопившихся за время его отсутствия.
После работы пошел к Шугачевым. Прежде всего вела туда вина перед Верой. Как она? Ничем же он не помог, только наобещал.
Виктора не было — проводил партбюро. И Веры не было. Посидел с Полей в ее на диво уютной кухне. Рассказал про Вету. Поля поняла его отцовскую боль.
— Ой, Максим! Я сама со страхом думаю о том времени, когда придется выдавать дочек. Наверно, труднее всего первую. С сыновьями проще. Тут как бы приобретаешь, а не теряешь. Заставьте себя думать, что вы приобретаете сына, и порадуйтесь.
Тогда он, как на исповеди, рассказал Поле, что больно ему не из-за одной только этой утраты, рассказал про Дашу, хотя давно догадывался, что Шугачевы многое знают и лишь из деликатности молчат.
Поля попробовала было оправдать Дашу.
— Она звонила мне, искала вас. Но вы уже были в Минске. Мы долго говорили по телефону. Собственно, говорила Даша… Мне при детях не очень можно было…
Максим представил себе, что могла наговорить Даша. И не ошибся. После долгой беседы обо всем — об их отношениях, о Вете, ее замужестве — Поля вдруг с той прямотой, с какой это делают только умные женщины, спросила:
— Скажите откровенно, Максим, у вас кто-нибудь есть?
— Поля, клянусь. Перед тобой и Виктором мне нечего таиться, ты знаешь, как я отношусь к вам. У меня никого нет. Ты знаешь, как я любил жену! Я пять лет делал все, чтоб наладить нашу жизнь. Я шел на компромиссы, от которых самому делалось гадко, ты знаешь мою цыганскую натуру, знаешь, как мне невыносимо всякое соглашательство. Но до нее ничего не доходит. По-моему, это уже просто психоз, болезнь. Чем дальше, тем хуже. У вас с Виктором бывало, чтоб вы по три недели не разговаривали?
— Что вы! Как можно перед детьми ходить надутыми индюками… Мне даже трудно представить, что Даша такая. Нет, не подумайте, я верю вам. Тем более мне странно и горько.
Разговор шел очень откровенный, такой не часто случается. При этом хозяйка не забывала подливать гостю какой-то особенной настойки на почках малины, тополя и еще чего-то.
И нечистый потянул за язык. Захотелось за откровенность отплатить такой же откровенностью. Сказал о Вере. Когда слова уже сорвались, тогда только понял, что сделал глупость. Поля побледнела. Поднялась и заглянула в коридор: не слышат ли меньшие?
Страшно было видеть, как ошеломила мать такая новость. Выходит, не добром он заплатил, а злом. По сути, получается, что он, как злодей, ударил радушную хозяйку в сердце.
Стараясь смягчить удар, который нанес своей ненужной откровенностью, Максим начал рассказывать, как говорил с Вадимом и почему не стал беседовать с Кулагиным-старшим.
Поля перебила его:
— Максим, я вас прошу. Ни с кем не надо говорить. Ни с кем. И с Верой тоже. Я сама…
Понял, что ей больно продолжать этот разговор, и почувствовал себя отвратительно — неблагодарным, неумным, преступником перед лучшими друзьями. Предателем перед Верой. Как теперь посмотреть ей в глаза? Гнусное, страшное ощущение предательства не покидало весь вечер, когда он приехал сюда, в Волчий Лог, и долго согревал настывшую за несколько дней дачу.
Утром он стал оправдывать себя тем, что выдал Верину тайну не кому-то постороннему, а матери. Мать должна знать. Такая мать, как Поля, поможет во сто крат лучше, чем он, чужой мужчина, который в собственной семье не сумел добиться ладу. Но тут, среди нетронутой чистоты снега, под ласковый переклик доверчивых синиц, опять появилось чувство вины перед Верой. Однако несколько иное и ослабленное тем, что одновременно он впервые после встречи почувствовал себя виноватым и перед Ветой. В чем? Правда, вина эта была неосмысленная, туманная, раньше никогда ничего подобного не испытывал. Как умел, воспитывал Вету, как умел, воспитывал студентов и молодых проектировщиков, инженеров. Кажется, честно выполнял свои отцовские, общественные, профессиональные обязанности. Что еще можно требовать от человека? Как же надо было жить, чтоб от этого стало лучше и Вете, и Вере? И что значит лучше? Богаче? Проще? Чтоб у них был пример? Разве плохим примером служили Вере ее родители?
Максим сбросил куртку и начал чистить дорожки. Загребал широкой деревянной лопатой мягкий и легкий снег, откидывал в сторону.
Работа была приятная, и он не только расчистил снег вокруг своей дачи, но проложил дорожку до главной улицы поселка, которую шутники называли проспектом Аноха. Коммунальщику, как и некоторым другим ответственным работникам, свое садовое хозяйство пришлось срочно ликвидировать. Однако название осталось. Между прочим, Анох настраивал членов партбюро, чтоб потребовали и от него, Карнача, «добровольного» отказа от недвижимой собственности.
Показались первые лыжники. Когда начинается лыжный сезон, в Волчьем Логе в выходные бывает многолюдно. И зачастую останавливаются перед его домом. Любуются.
Не хотелось на людях чистить улицу, привлекать к себе внимание. Да и странно выглядела его работа, когда все еще шел снег. Хотя, правда, не такой густой, как ночью, этот не скоро занесет дорожки.
Максим спрятал в гараж лопату. Ласково, как живое существо, погладил свой старенький «Москвич», который так выручал его сейчас, хотя в последнее время не раз и подводил.
Подумал, что теперь не выехать, пока не поймает на шоссе грейдер, чтоб расчистить дорогу. Но сегодня чистить бесполезно — идет снег. В понедельник придется обувать бурки и торить до шоссе тропку, а там голосовать, как бедному студенту.
Плита, которую он разжег, проснувшись, согрела кухню и отчасти соседнюю комнату, которую обогревал электрорадиатор.
Готовя завтрак, Максим почти весело, уже во всяком случае, без той тяжести на душе, с которой час назад вышел на улицу, вспомнил свое знакомство с родителями Ветиного жениха — Прабабкиными.
— Прабабкины-Прадедкины, — засмеялся он, нарезая тонкими ломтиками картошку на сковородку с горячим маслом; она шипела и сердито фыркала.
Странное впечатление осталось от этой неожиданной встречи с людьми, с которыми ему, видимо, предстоит породниться.
Жених не очень нравился. Манерный какой-то, но «бесстильный» (правда, отсутствие стиля тоже стиль) — ни старомодный, ни современный, как говорится, ни рыба ни мясо.
Корней после танца не вернулся с Ветой, она подошла к столу и сказала, что жених пошел звонить своим.
Максим сразу спросил у дочери:
— Ты любишь этого человека?
Вета беззаботно рассмеялась.
— Может, я еще не знаю, что такое любовь. Но он мне понравился с самого начала. Папа, он не такой тихоня, это он перед тобой смущается.
— Давно вы знакомы?
— С весны. Он сразу познакомил меня со своими родителями…
— Он сразу… А ты когда? Не стыдно тебе?
— Прости, папа. В самом деле стыдно.
Жених вернулся и передал приглашение родителей позавтракать у них.
Он подумал тогда с невеселым юмором: «Как старосветские помещики».
Но старшие Прабабкины ему понравились. Прежде всего их биография. Необычная даже для их поколения. Не такой уж юный лейтенант из сельских учителей в сорок втором женился на девушке-снайпере, слава о которой уже гремела тогда по всему Карельскому фронту.
Финский снайпер перехитрил Ганну. Целил, гад, видно, в сердце, а прострелил левую руку. В двадцать один год Галя осталась без руки, но Тимофей Прабабкин не бросил жену-инвалида, и она не оставила его, всю войну прошла вместе с частью и немало еще сняла потом фашистских «кукушек» одной рукой. После войны родила двух детей, была с мужем в Германии, в Польше, на Дальнем Востоке. Теперь возглавляет домовый комитет.
— Командую пенсионерами. Даю раскрутку всем в жилищных отделах. А мошенников там хватает. Они меня боятся больше, чем ОБХСС, — со смехом рассказывала она за столом.
Несмотря на инвалидность, Ганна Титовна — женщина моложавая, без инея в волосах, крепкая и подвижная.
Максим хотел было помочь ей накрыть на стол, но она бесцеремонно, сразу перейдя на «ты», отклонила его помощь. Может быть, кого другого шокировала бы ее солдатская грубоватость, а ему понравилась эта женщина. Он подумал, что Вете полезно будет ее влияние, может быть, оно выбьет из нее Дашин дух.