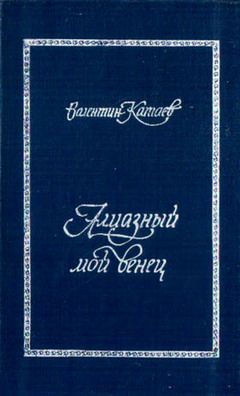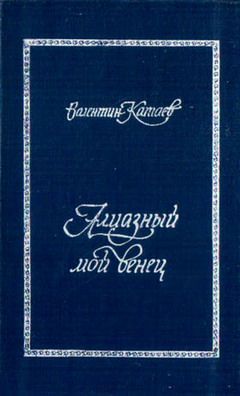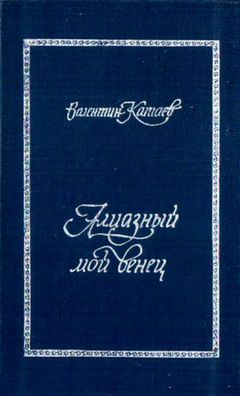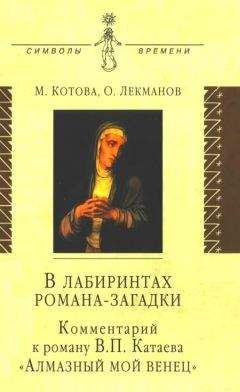Валентин Катаев - Алмазный мой венец
– А что он умеет? – спросил ответственный секретарь.
– Все и ничего, – сказал я.
– Для железнодорожной газеты это маловато, – ответил ответственный секретарь, легендарный Август Потоцкий, последний из рода польских графов Потоцких, подобно Феликсу Дзержинскому примкнувший к революционному движению, старый большевик, политкаторжник, совесть революции, на вид грозный, с наголо обритой, круглой, как ядро, головой и со сложением борца-тяжеловеса, но в душе нежный добряк, преданный товарищ и друг всей нашей компании. – Вы меня великодушно извините, – обратился он к другу, которого я привел к нему, – но как у вас насчет правописания? Умеете вы изложить свою мысль грамотно?
Лицо друга покрылось пятнами. Он был очень самолюбив. Но он сдержался и ответил, прищурившись:
– В принципе пишу без грамматических ошибок.
– Тогда мы берем вас правщиком, – сказал Август.
Быть правщиком значило приводить в годный для печати вид поступающие в редакцию малограмотные и страшно длинные письма рабочих-железнодорожников.
Правщики стояли на самой низшей ступени редакционной иерархии. Их материалы печатались петитом на последней странице, на так называемой четвертой полосе; дальше уже, кажется, шли расписания поездов и похоронные объявления.
Другу вручили пачку писем, вкривь и вкось исписанных чернильным карандашом. Друг отнесся к этим неразборчивым каракулям чрезвычайно серьезно. Он уважал рабочий класс, невиновный в своей безграмотности – наследии дореволюционного прошлого.
Обычно правщики ограничивались исправлением грамматических ошибок и сокращениями, придавая письму незатейливую форму небольшой газетной статейки.
Друг же поступил иначе. Вылущив из письма самую суть, он создал совершенно новую газетную форму – нечто вроде прозаической эпиграммы размером не более десяти – пятнадцати строчек в две колонки. Но зато каких строчек! Они были просты, доходчивы, афористичны и в то же время изысканно изящны, а главное, насыщены таким юмором, что буквально через несколько дней четвертая полоса, которую до сих пор никто не читал, вдруг сделалась самой любимой и заметной.
Другие правщики сразу же в меру своих дарований восприняли блестящий стиль друга и стали ему подражать. Таким образом, возникла совершенно новая школа обработчиков, перешедшая на более высшую ступень газетной иерархии.
Это была маленькая газетная революция.
Старые газетчики долго вспоминали невозвратимо далекие золотые дни знаменитой четвертой полосы «Гудка».
Создатель же этого новаторского газетного стиля так и остался в этой области неизвестным, хотя через несколько лет в соавторстве с моим братишкой снискал мировую известность, о чем своевременно и будет рассказано.
Пока же мне не хочется расставаться с ключиком, с Мыльниковым переулком, с его особым поэтическим миром, где наши свободные мнения могли не совпадать с общепринятыми, где для нас не существовало авторитетов и мы независимо судили об исторических событиях, а о великих людях просто как о соседях по квартире.
О Льве Толстом и Наполеоне судили строго, но справедливо, не делая скидок на всемирную славу. Некоторых из великих мы совсем не признавали. Много читали. Кое-чем чрезмерно восхищались. Кое-что напрочь отвергали. Словом, позволяли себе «колебать мировые струны».
Вокруг нас бушевали политические страсти. Буржуазный мир еще не мог смириться с победой Октябрьской революции. Волны ненависти катились на нас с Запада. Советская власть с каждым днем мужала, но ей все еще приходилось преодолевать множество препятствий.
Сегодня трудно себе представить, но в стране была безработица и в Москве работала Биржа труда. Среди бурь и потрясений рождалось могучее государство рабочих и крестьян. Появились новые формы общественного сознания, производственных отношений.
Эпоха Великого Поиска.
Все несло на себе печать новизны.
Новый кинематограф. Новый театр. Новая поэзия. Новая проза. Новая живопись.
Новые имена гремели вокруг нас. Новые поэмы. Новые фильмы. Новая техника.
Появились первые радиоаппараты – самодельные ящики с детекторными приемниками, и, надев на голову наушники, можно было слышать муравьиную возню неразборчивой человеческой речи на разных языках и слабую музыку, бог весть откуда доносившуюся из мирового эфира в наш Мыльников переулок.
Но все это как бы не имело к нам отношения.
Мы были неизвестны среди громких имен молодого искусства. Мы еще не созрели для славы. Мы еще были бутоны. Аполлон еще не требовал нас к священной жертве. Мы только еще разминали пластический материал своих будущих сочинений. А то, что было написано нами раньше, преждевременно умирало, едва успев родиться. Однако это нас нисколько не огорчало.
Может быть, этим и восхищался Брунсвик…
Мы были в курсе всех событий. Мы шагали мимо Дома Союзов, где в Колонном зале проходили политические процессы. Мы читали дискуссионные листы газет, разворачивая их прямо на улице, и ветер вырывал их у нас из рук,
надувая, как паруса.
Мы посещали знаменитую первую Сельскохозяйственную выставку в Нескучном саду, где толпы крестьян, колхозников и единоличников, из всех союзных республик в своих национальных одеждах, в тюбетейках и папахах, оставя павильоны и загоны с баснословными свиньями, быками, двугорбыми верблюдами, от которых исходила целебная вонь скотных дворов, толпились на берегу разукрашенной Москвы-реки, восхищаясь маленьким дюралевым «юн-керсом» на водяных лыжах, который то поднимался в воздух, делая круги над пестрым табором выставки, то садился на воду, бегущую синей рябью под дряхлым Крымским мостом на том месте, где ныне мы привыкли видеть стальной висячий мост с натянутыми струнами креплений.
«И чего глазеет люд? Эка невидаль – верблюд! Я на «юнкерсе» катался, да и то не удивлялся».
Именно к этому периоду нашего творческого бездействия, изнурительно-медленного созревания гражданского самосознания мне бы хотелось отнести те отрывочные воспоминания о ключике на пороге его зрелости, о его оригинальном мышлении, о его совершенно невероятных метафорах, секрет которых ныне утрачен, как утрачен секрет химического состава неповторимых красок мастеров старинной итальянской живописи, и по сей день не потерявших своей светящейся свежести.
Вероятно, здесь мы имеем дело с физиологическим феноменом: особым устройством механизма запоминания в мозговых клетках ключика, странным образом соединенного с механизмом ассоциативных связей.
Метафора – это, в общем, довольно банальная форма поэтической речи. Кто из писателей не пользовался метафорой! Но метафоры ключика отличаются такой невероятной ассоциативной сложностью, которая уже не в состоянии выдержать собственной сложности и доходит до примитивной, почти кухонной простоты.
В жизни он был так же метафоричен, как в своих произведениях.
Уже тяжело больной, на пороге смерти он сказал врачам, переворачивавшим его на другой бок:
– Вы переворачиваете меня, как лодку.
Кажется, это было последнее слово, произнесенное им коснеющим языком.
Быть может, самая его блестящая и нигде не опубликованная метафора родилась как бы совсем случайно и по самому пустому поводу:
у нас, как у всяких холостяков, завелись две подружки-мещаночки в районе Садовой-Триумфальной, может быть в районе Миусской площади. Одна чуть повыше, другая чуть пониже, но совершенно одинаково одетые в белые батистовые платьица с кружевами, в белых носочках и в белых шляпках с кружевными полями. Одна была «моя», другая – «его».
Мы чудно проводили с ними время, что, признаться, несколько смягчало горечь наших прежних любовных неудач.
Наши юные подруги были малоразговорчивы, ненавязчиво нежны, нетребовательны, уступчивы и не раздражали нас покушениями на более глубокое чувство, о существовании которого, возможно, даже и не подозревали.
Иногда они приходили к нам в Мыльников переулок, никогда не опаздывая, и ровно в назначенный час обе появлялись в начале переулка – беленькие и нарядные.
(Вот видите, сколько мне пришлось потратить слов для того, чтобы дать понятие о наших молоденьких возлюбленных!)
Однако ключик решил эту стилистическую задачу очень просто.
Однажды, посмотрев в окно на садящееся за крыши солнце, он сказал:
– Сейчас придут флаконы.
Так они у нас и оставались на всю жизнь под кодовым названием флаконы, с маленькой буквы.
По-моему, безукоризненно!
Одно только слово – и все совершенно ясно, вся, так сказать, картина.
На этом можно и остановиться.
Остальные метафоры ключика общеизвестны:
«Она прошумела мимо меня, как ветка, полная цветов и листьев» – и т. д.
Наконец, неизвестные «голубые глаза огородов».
Поучая меня, как надо заканчивать небольшой рассказ, он сказал:
– Можешь щегольнуть длинным, ни к чему не обязывающим придаточным предложением, но так, чтобы оно заканчивалось пейзажной метафорой, нечто вроде того, что, идя по мокрой от недавнего ливня земле, он думал о своей погибшей молодости, и на него печально смотрели голубые глаза огородов. Непременно эти три волшебных слова как заключительный аккорд. «Голубые глаза огородов». Эта концовка спасет любую чушь, которую ты напишешь. Он подарил мне эту гениальную метафору, достойную известного пейзажа Ван Гога, но до сих пор я еще не нашел места, куда бы ее приткнуть.