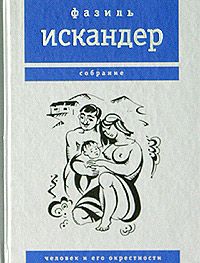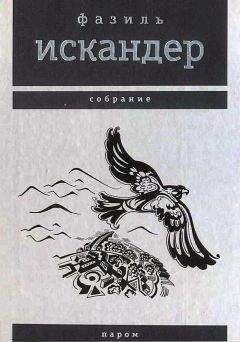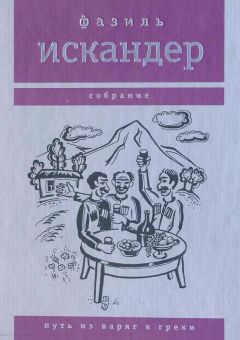Фазиль Искандер - Софичка
— Господи, вот мы снова у костра, с которого все начиналось. Мы забыли все неудачи и все несправедливости нашей жизни! И ты забудь! Мы забыли позор нашей истории и наш собственный позор! И ты забудь! Дай, Господи, грешному человеку еще одну попытку! Господи, дай! Мы только начинаем жить! Мы у костра!
…Весело разожгли костер. Нури прирезал барашка и умело разделал его. Мясо вместе с помидорами и болгарским перцем насадили на шампуры и приготовили пахучий, шипящий, сочащийся шашлык. Потом долго обедали на расстеленном ковре, сопровождая эту еду шутками и смехом. По мере насыщения смех компании делался все громче и дружнее: повышенное количество выпитого воспринималось как повышенное качество шуток. Пили «Хванчкару», точнее, запивали «Хванчкарой» французский и армянский коньяк.
Женщины пили, не слишком отставая от мужчин. Мужчины были в летах и богаты, и поэтому женщины у них были молоды, красивы и профессиональны в делах любви.
После еды и выпивки, так сказать, завершив не слишком головоломную первую часть программы, приступили ко второй, о головоломности которой не могло быть и речи, ибо эта часть программы самой природой всего более отдалена от головы.
Две пары устроились в машинах, а Нури, как более натуральный человек, вытащил из багажника свой старый плащ и повел свою раскосую красавицу на край лужайки, кстати целомудренно рассчитав, что этот край необозрим из машин. Эта кенгурская красавица уже много лет была его тайной (хотя бы от мужа) любовницей. Кстати, самая красивая и потому самая дорогая шлюха, приезжавшая летом в Мухус, сочетая умеренный отдых с неумеренным промыслом, сказала однажды потрясающую по своей самоотверженности фразу.
— С Нури, — сказала она, — я бы даже бесплатно заперлась в номере на неделю.
Эта историческая фраза облетела деловые круги Мухуса.
— Да врут все они, — отвечал Нури, морщась, когда его поздравляли по этому поводу. Стыд за похотливость, или злозадость, как говаривали чегемцы, — последнее, что в нем оставалось от чегемства.
…Все еще мощный самец, он, не раздеваясь, стремительно овладел ею и теперь после сладостных телесных трудов пытался отдышаться.
Она все еще лежала рядом с ним с задранным платьем, но ее голые стройные ноги сейчас вызывали в нем только отвращение и ненависть.
— Прикрой занавеску, — клокотнул он в ее сторону Она удивленно посмотрела на него и молча прикрылась платьем.
Чем яростнее он брал женщину, тем сильнее поднималось в нем отвращение после близости. Иногда он не мог сдержать себя, правда, имея дело с другими шлюхами, и неожиданно после бурного соития они получали пару увесистых пощечин.
— За что? — случалось, начинали они плакать.
— За то и за это, — загадочно отвечал он.
Но он и сам не знал, за что. По-видимому, перед каждой близостью женщина создавала для него иллюзию достижимости счастья, и он всей своей бычьей страстью проламывался к нему, но путь к счастью всегда обрывался у самого пика, и он, обессиленный, каждый раз сползал в гнусную, грязную пустоту.
Но эту свою любовницу он никогда не бил. Она ведь была ему родственницей, хоть и не по крови, но все же. Но все же по чегемским обычаям он был достоин смертной казни и теперь второй раз в жизни избежал этой казни, на этот раз просто потому, что не было уже таких чегемцев, которые могли быть исполнителями древних обычаев.
Особенно чувственную тонкость этой связи придавало то, что его любовница была дочерью человека, который должен был казнить его за убийство брата и который сам уже давно гниет в земле. Тогда Софичка спасла Нури от смерти. Да, эту любовницу он никогда не бил после близости или тем более до близости, и он слегка гордился этим в глубине души. Однако после любовных утех она его раздражала не меньше остальных.
Что с ними поделаешь! Он-то хотел, чтобы всякая шлюха, вызвавшая пламя его страсти, после близости немедленно, как, бывало, жена, да, как жена, застенчиво прикрывала себя, приводила себя в пристойный вид. Но ни одна из них об этом не догадывалась, а валялась в разнузданной позе, в которой настигли ее последние содрогания. Бесстыжие стервы!..
При всем богатстве и уважении, которым он пользовался в подпольном мире и в мире чиновников, которых подкармливали подпольные воротилы, Нури был недоволен жизнью.
В последние годы все его раздражало: от правительства до жены. Этот покорно испытующий взгляд жены, когда он поздно возвращался домой, этот взгляд молча, но неизменно ему говорил: «Ты опять был с женщиной?» Невозможно было ей объяснить, что с женщинами он бывал гораздо реже, чем она думала, что он был занят своими бесконечными делами и бесконечными разборками с партнерами. Она всегда смотрела на него с этим немым упреком, от которого можно было сойти с ума. Слава Богу, еще с немым, хотя сама невозможность ответить на немой упрек еще больше его раздражала.
Его приводили в бешенство собственные балбесы, его взрослые дети, игроки и пьяницы, которых совершенно невозможно было подключить к какому-нибудь серьезному делу, требующему сообразительности и мужества. Слава Богу, что они еще вроде бы не кололись! Но с каким тайным, глупым, подобострастным азартом, он это знал, они ждали его смерти, чтобы прокутить, прожрать, просрать все его богатство! Ничтожества! Он и сейчас был физически здоровее их!
Но главное тупиковое противоречие его жизни было в том, что благодаря слабостям государства он и ему подобные люди скопили большие богатства, но, чтобы сохранить эти богатства, им теперь нужно было более сильное и более жесткое государство.
А государство, как назло, дряхлело и дряхлело, и уже появились молодые, столь дерзкие волки, что пытались их, старых волков коммерции, обкладывать подпольными налогами, и иногда небезуспешно. (Задолго до Москвы окраины репетировали новые общественные отношения в стране. А Москва, глядя на все это, хлопала глазами, уверенная, что до нее такое никогда не дойдет.)
Мир перевернулся! И некоторые коммерсанты уже трусливо платили. Нет, лично к нему, зная его бесстрашие, пока никто не обращался. Но он ставил вопрос принципиально! Что это за государство, спрашивается, которое вместе со своей купленой-перекупленой милицией не может защитить богатых, солидных людей от молодых и наглых голодранцев-шакалов?!
Вдруг он услышал далекий мальчишеский голос: «Хейт! Хейт!», сзывающий коз, и еле уловимый звук колокольца на шее козы. Он сам когда-то пас коз на этих склонах, иногда вместе со своей сестренкой Софичкой. Они тогда были детьми. Как давно это было!
И ему вдруг мучительно захотелось взглянуть на Большой Дом, где он вырос. Он знал, что дядя Кязым уже умер, что дети его и вдова живут в городе, но он не знал, что Большой Дом уже продан и новый хозяин разобрал его и свез в то же прожорливое местечко Наа, хотя кухню, примыкавшую к дому, он еще не успел разобрать.
Нури решил, что за час он успеет спуститься отсюда к Большому Дому и до заката поднимется.
— Я спущусь к Большому Дому и вернусь, — неожиданно сказал он своей любовнице и, быстро привстав, вытянул несколько глотков из слегка початой бутылки французского коньяка, стоявшей рядом.
Заткнув бутылку пробкой, он легко вскочил и, держа ее в одной руке, бодро пошел вниз, и охотничий нож болтался у него на бедре. Это последнее, на что обратила внимание его любовница, когда он стал спускаться к Большому Дому.
Он быстро спускался вниз по тропе, но зная, что эта тропа ведет к восточной части Чегема, вскоре свернул в заросли направо, потому что ему надо было двигаться к западной части Чегема.
Ниже лужайки, на которой они пировали, загустел туман, и Нури уже двигался в молочной полутьме склона, все меньше и меньше его узнавая. Ему казалось, что туман нарочно замаскировал местность. И, уже потеряв всякие ориентиры, плутая по одичавшему, разросшемуся кустарниками склону, он с бешенством дикого кабана пробивался сквозь них, скалясь от ярости и шепча:
— Сдохну, но выйду к Большому Дому!
Свирепея с каждый шагом, он рвался сквозь колючие плети ежевики, сквозь кусты бересклета, сквозь податливую бузину, сквозь бодливые, негнущиеся, наждачные самшитовые заросли. Он выдирался из канканов лиан — обвойника, хмеля, навоя, сквозь заросли держидерева, хватавшего его злыми клювами колючек. Он рвался и рвался, иногда оскальзываясь и падая на каменных осыпях, иногда съезжая вместе с ними, но, и падая, он успевал высоко поднять бутылку с коньяком, сохраняя ее, как светильник разума, как источник энергии, и иногда после очень болезненного падения припадал к бутылке и выпивал несколько живительных глотков.
И дальше с еще большим упорством и яростью сквозь гибкий кизильник, сквозь лопоухие кусты лавровишни, сквозь грохочущий молодой листвой неизвестно откуда взявшийся юный ольшаник, сквозь кусты лещины, лоха, миндаля, сквозь злобно ощетиненные кусты дикой розы, так называемой собачьей розы, по-собачьи разодравшей ему брюки, сквозь резиново-упругие кусты рододендрона, сквозь шипастые плети заматерелого сассапариля.