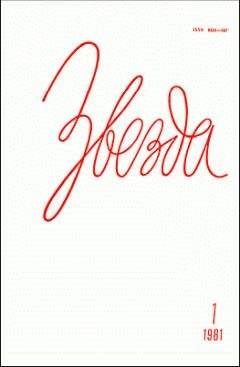Григорий Глазов - Шефский концерт
Дробь автомата услышал Карамышев. Услышал одновременно и звон стекла и странную тишину, когда машина, съехав вбок, замерла на месте, тишину, о которую позвякивало пустое цинковое ведро на цепочке у заднего борта.
— Ложись на землю! — почему-то шепотом приказал Карамышев и опустил плечи, как человек, привыкший к неожиданностям окопной жизни.
Раньше всех у кабины очутился Павел. Он рванул дверцу.
— Ната!..
Она сидела, выпрямившись, откинув голову, по влажному лицу расползалась белая тень.
— Да, — шевельнула она сухими губами.
И тут Павел заметил съехавшую с сиденья маленькую фигурку красноармейца. Он лежал головой на коленях у Наты, выставив большое розовое ухо, а из-под щеки по ее платью ширилось, как на промокательной бумаге, бурое пятно. Почти вся автоматная очередь, размоловшая лобовое стекло, досталась этому пареньку. Павел поднял с пола его новенькую пилотку, когда услышал за спиной голос Карамышева:
— Быстро, быстро отсюда! За мной...
Они бросились к реке. Глубоко увязая в чавкающей топи, перебрались на высокий берег. Выпачканные по грудь черной болотной жижей, сглатывая сухим горлом слюну, обессиленные, они опустились на торфяник, прикрытый высокими кустами. И лишь тогда Павел разжал ладонь. Ната высвободила свою руку, потерла запястье — так сильно он сжимал его, пока они бежали сюда. Алферов безучастно рассматривал зеленые конфетти ряски, облепившие мокрые брюки. На его льняных легких волосах темнел быстро подсыхавший комок грязи. Запахло табачным дымом. Все повернулись к Карамышеву, неизвестно каким чудом ухитрившемуся закурить. Он тяжело дышал измученными эмфиземой легкими и, видимо, до головокружения глубоко затягивался. Между колен стоял карабин, а на шее висел широкий ремень с двумя подсумками. Никто не помнил, когда он успел вытащить это из кабины убитого красноармейца.
Отдышавшись, Павел подполз к кустам, развел их и сразу же внизу увидел двоих: они лежали между холмиками, тяжело раскинув ноги в странных коротких сапогах, и ожидающе всматривались туда, где остановилась полуторка, настороженно выставив тускло отсвечивающие автоматы. В стороне стоял мотоцикл с коляской, возле него, на траве, как во время пикника, — консервные банки, фляги и полкаравая ребристого крестьянского хлеба с воткнутым плоским штыком.
«Такие они... Вир бауен моторен, вир бауен тракторен», — ожесточаясь, подумал Павел и тихо позвал Карамышева. Тот медленно всматривался в них, а затем подвинул к Павлу карабин.
— Ну, Паша... Их двое... Глаза у вас моложе.
— Которого? — хрипло спросил Павел, притягивая карабин.
— Того, с закатанными рукавами...
Они глубоко посмотрели друг другу в глаза, и Карамышев кивнул.
Павел коснулся щекой холодноватой глади приклада, но Карамышев пальцем легко постучал по затвору. «Патрон! — ужаснулся Павел. — На месте ли патрон?» Он мог нажать крючок, и, не окажись там патрона, те двое услышали бы лишь пустой щелчок металла! Осторожно, чтобы не звякнуть, отвел затвор: из маслянистой глубины магазинной коробки всплыл патрон с желтым зрачком капсуля. «А что, если осечка?»— снова подумал Павел, запирая в патроннике этот желтый зрачок. И вдруг понял, что не знает, куда надо целиться. Он вспомнил все мишени, по которым стрелял: круглые с «яблочком» посередке, фанерные зеленые фигуры с пробоинами там, где предполагалась голова; вспомнил, как в этих пробоинах свистели степные сквознячки, как затыкал дырочки колышками из обломанных веток...
Немец выбрал сам себе смерть. В момент, когда Павел, задержав дыхание, плавно потянул к себе крючок, тот, с закатанными рукавами, стал подниматься. Видимо, решил, что убитый ими шофер был один: удобно притаившись, они с приятелем долго ждали ответного огня русских солдат, ехавших, как полагали, в грузовике. Но в этом веселившем их коварном ожидании тех, кто, не видя их, мог пойти под пули двух автоматов, немцы не заметили четверых штатских...
Павел, очевидно, целился в голову, но пуля пошла в грудь. Тяжелый выстрел карабина скатился вниз к холмам. Второй немец, не понимая, что произошло, бросился к мотоциклу. Он нервно дергал стартер, оглядываясь на лежавшего товарища. Павел видел его красивое узкое лицо с очень изящными очками, целиком уместившееся в роковой кружок намушника. Выстрел швырнул мотоциклиста в коляску. Он затрепетал руками, силясь ухватиться за что-то, вспомнившееся лишь ему, и затих.
Все было кончено. Возле Павла и Карамышева уже сидели Ната и Алферов. Она сложила ладони, прижала их к груди и видела лишь, как дергается у Павла нижнее веко, как бы прищуренное для следующего выстрела. Алферов тихо мычал, потирая высокий лоб.
— Боже мой!.. Что же теперь будет?.. Как это мы... — ознобно пришепетывал он.
— Петр Петрович, милый, успокойтесь. Это же война. Настоящая. — Карамышев тряс его за плечи.
Но страх, заполнивший Алферова, был громче этих слов. И тогда Карамышев сказал жестко:
— Ладно! Идемте, товарищи. Время дорого. — Он снял с плеча ремень с подсумками и протянул Павлу. — Возьмите... Это ваше...
Еще раз переправившись через болото, прихватив автоматы убитых, в скользкой, противно прилипшей к телу одежде, они вернулись к полуторке.
Шофера кое-как похоронили в неглубокой ложбинке под курганом, набросав на могилу белесые стебли полыни.
Затем, сложив на подножку его документы, Карамышев тяжело взобрался в кузов, открыл ящик с инвентарным клеймом театра и, взяв оттуда в охапку вещи, швырнул их к ногам Павла.
— Переодевайтесь, товарищи... В сухое... — сказал Карамышев, продолжая извлекать из ящика сапоги, ремни, пилотки.
— Леонид Сергеич, это же гениально! — понимающе оживился Павел, отыскивая в куче гимнастерок и брюк свою лейтенантскую форму. — Ната, быстро! Вон за тем кустом тебе удобно будет. — Он подал ей юбку, сапоги и санинструкторскую сумку.
— Зачем вы это делаете? — отозвался вдруг Алферов.
— Петр Петрович, перестаньте. Вы же все понимаете, — ответил Карамышев, просовывая голову в гимнастерку с капитанской шпалой в петлицах.
— К чему этот маскарад? — вскинулся Алферов.
— Это не маскарад, Петр Петрович. Это серьезно, — обиженно ответил Павел.
— А серьезно я не желаю! Если мы попадем в руки к немцам, будет не только унизительно смешно, но и... — Алферов осекся.
— Нам нужно вернуться в полк, — четко произнес Карамышев.
— В какой полк?! Я иду в город. У меня мать!.. Не могу я напяливать мундир и доказывать при случае, что я — не я. Я гражданский человек, — сорвался Алферов.
— Мы ведь тоже не призывники, Петр Петрович, — затягивая ремень до знакомой дырочки, заметил Павел. — И куда же вы один?.. А так — нас четверо. Мы можем понадобиться в полку. Хотите, мы вам Наташин карабин дадим, а ей потом наган достанем?
Подошла Наташа. Слабо улыбнувшись, она потянула Алферова за рукав:
— Мы вас не отпустим. Только вместе... Мы их все равно победим... Мы же вас очень любим... Паша даже подражает вам...
— Оставьте. Оставьте меня... Это — безрассудство. Мальчишество... Нужно где-то переждать и возвратиться в город, — сбросив руку Наташи, упрямо твердил Алферов. — Павлу хочется поиграть в солдатики, но сейчас не эпоха Жанны д'Арк, и я еще не получал повестку!
— Я не в солдатики, Петр Петрович. И вы это видели. — Павел резко захлестнул ремень за спиной.
— А! — Алферов махнул рукой.
— Петр Петрович, на минуточку, — позвал его Карамышев.
Они отошли.
— В городе, возможно, немцы. — Карамышев показал туда, где по двум направлениям растекался гул. — Это танки. Что же вы, милый! Мы столько лет вместе. Вспомните вашего Астрова! Вы же были великолепным Астровым! А Саратов, когда мы ели лепешки из отрубей да с патокой. Как это было вкусно и дивно! Голодными бежали в театр. Играли. И как! Может быть, им, — Карамышев кивнул на Павла и Наташу, — суждено долго воевать. И выжить. И запомнить сегодняшний день навсегда. А какими запомнить вас, меня и себя?!
— Вы правы, Леонид Сергеевич, для себя и для них. Я прав для себя. Простите, но я иду в город.
— Воля ваша, — развел руками Карамышев.
Павел уже переоделся и сидел на подножке машины, копаясь в затворе немецкого автомата. Наташа наблюдала за мужем. Она много раз видела его в этой форме на сцене и привыкла к ней. Но сейчас это был почти незнакомый ей человек: не лейтенант Колосов из пьесы «Мы рядом с вами», написанной литсотрудником городской газеты, и не ее Павел Минасов, а лейтенант, фамилии которого она вроде и не знала. Был он в своей форме, подчеркивавшей даже давнюю военную выправку. «Как странно все», — подумала она, поудобней подбросив плечом ремень карабина.
* * *Карамышев отвык от сапог. Эти были к тому же на номер больше. Для сцены ничего, а теперь, пройдя несколько километров, он чувствовал, как распарившаяся нога больно трется о задник. «Портяночку б», — подумал он.