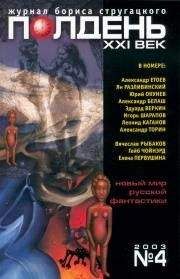Игорь Сюмкин - Полдень следующего дня
Венера заметила, что перестали пощелкивать счеты аты. Покосилась на него: делал вид, что изучает какую-то бумагу, но глаза были неподвижно уставлены в одну точку. Венера его знала…
«Какая там романтика? Хаська вон как одета!» — подумалось ей. Вслух сказала другое, но все равно неудачно:
— Радио надо слушать.
— Радио, говоришь? Где уж там… Мотаешься туда-сюда, как проклятый. Везде завал с кормами. Да тебя еще уму-разуму учи. — Равиль говорил уже зло. — Хаська, небось, на путь истинный наставила? Перекати-поле твоя Хаська и все ей до… — Он чуть не выразился. — Не ожидал, не ожидал от тебя! И этот друг сидит да молчит в тряпочку! Вчера разговорчивей был… Твоя дочь или нет? — резко бросил он ате.
Тот вздрогнул и суетливо защелкал на счетах. Тонкие пальцы похмельно заплетались, и косточки то неслись пулями, то почти не двигались с места.
— Райком тоже хорош! Сук, на котором сидят, сами и рубят… А план им подавай, хоть сам с подойником бегай! Патриотические инициативы всяких дур поддерживают… — раздраженный Равиль не стеснялся уже в выражениях. — Знаешь, милая, катись, конечно, на свои передовые рубежи, но назад не возвращайся!
Ата бессмысленно, как четки, медленно передвигал по одной косточке на верхней рейке. Ничего не сказал тогда Венере ата. Он, видать, принял все на свой счет. На счет последнего в округе истинно мужского поведения. Венера не стала его разубеждать…
Пережила Венера первую свою смену, через неделю втянулась, а через две другой работы уже и не желала. В свободное время и вовсе скучать было некогда. Все было Венере в радость: ШРМ, танцы, салон педикюра, кукольный театр со сказками для взрослых, ресторан, куда ходили с девчонками обмывать первую получку (даже водка не показалась ей там очень уж отвратительной), «толкучка», где они с Хаськой искали Венере джинсы. Купили поношенные, зато недорого. Сравнительно. Вольно жилось ей первые четыре месяца…
А потом появился в ее жизни Боря. У него были густые русые волосы и резкие, нервные движения, был он угрюмым и одновременно вежливым. Говорили про него, что учительствовал прежде, что с женой развелся. Тогда он пекарем временно работал и вечерние водительские курсы одновременно посещал.
Частенько Венера взгляды его перехватывала: тяжелые, настороженно-изучающие. Донимал ими, не заговаривая, донимал, а однажды взял и в оперный пригласил. Приятно было Венере внимание Бори, но пугала странность его. С Хаськой посоветовалась: идти ли в театр, не слишком ли стар для нее и как быть, если вдруг, хоть это на него и непохоже, приставать после театра начнет?
— Не будь дурой, — покрутив пальцем у виска,, ответила Хаська. — Тебе счастье само в руки прет, а ты еще думаешь, о чем не надо! Борю любая, хоть молодая, хоть старая, с руками оторвет, а он в тебя втюрился… Упустишь! Вон сколько в пекарне девок в возрасте уже, а незамужних! Где нынче самостоятельного и непьющего найдешь? Алименты у него, правда… Ну так сейчас многие расходятся, мало ли что в жизни бывает… Упустишь — дурой будешь! — веско заключила Хаська.
«Упустишь — дурой будешь!» — слышались Венере Хаськины слова, когда объяснял ей Боря, на балерин, изгибавшихся причудливо, кивая, кто такая Жизель и кто — вилисы, что такое па-де-де и что — адажио. Помнила, что объяснял и что не поняла ничего ни из объяснений тех, ни в самом балете, хотя красивым все казалось: костюмы на артистках и зрителях, музыка, купол голубой с фигурами танцовщиц, позолотой на нем нарисованных, и единственная, огромная, с десятками хрустальных подвесков люстра. И Боря в строгом синем костюме. Представительный.
«Упустишь — дурой будешь!» — слышалось Венере, когда спросил он, любит ли она шампанское, и добавил несколько изменившимся, чуть дрогнувшим голосом, что дома у него (комнату он в старом городе снимал) есть бутылка полусладкого.
«Упустишь — дурой будешь!» — подталкивали, тянули Венеру за язык эти слова, когда она, понимая, что не в шампанском тут дело, сказала еле слышно, но не колеблясь почти: люблю…
Помнилось Венере о той ночи лишь, что не был с ней Боря очень уж ласков… Расписались они вскоре. Приятно было Венере, что завидовали ей все женщины пекарни. И красивая Хаська тоже.
— Ну, а как мужик-то он как? Ниче? — по сторонам воровато оглядываясь и улыбаясь странно, спросила она Венеру однажды.
— Будто не знаешь? Конечно, хороший… Не пьет, всю зарплату домой носит, — поняв ее по-своему, ответила та довольно.
— Да… Хороший… — опять оглянувшись по сторонам, протянула Хаська не совсем удовлетворенно.
Только тут до Венеры и дошел ее вопрос. Не было у Хаськи стыда и не будет!
Кое-что, правда, Венеру и угнетало. Не знала она, к примеру, о чем с умным Борей разговаривать. Дерганый он какой-то, раздражительный, поучает ее, как маленькую, Зиной иногда по ошибке называет, а еще, что родители рано или поздно о замужестве ее узнают. Ата. Вздрогнула она, услышав как-то в выходной:
— Схожу-ка я (Боря тогда уже таксистом работал) в парк. Может, калым какой подвернется? Лишним не будет…
Калым… Знала она, что Боря про другое говорит, а все равно не по себе стало. Так и привиделось в тот миг: сидит ата напротив Бори и о том, что он — Ильяс Закиров — последний, кто калым тестю в Сулеймановке отвалил, толкует… Причем знала Венера: не было бы это с его стороны намеком, не нужен ате калым и, предложи его Боря в ответ на те слова, отказался б ата. Еще бы, ведь окалымь его зять, так и в собственной семье не быть тогда ате «единственным настоящим мужчиной», а ему страшно было лишиться этой своей в собственных же глазах репутации. То же самое и сулеймановцев касалось: как бы ни поносил их по пьянке, вовсе не улыбалось ему, чтоб до цели упреки дошли. Начни все платить калым, нечем ему стало бы и хвастать в редкие свои хмельные дни. Чувствовала Венера, догадывалась: в том-то и беда аты, что не знал, во что путное характер свой, самолюбивый не в меру, вложить. В блажь самолюбие ушло. А Боря ведь ату не знает, нервный он к тому ж, вспыльчивый, и, если тот галиматью про калым понесет, неизвестно, чем все кончиться может… А разве плохо жизнь ее пока идет? И муж у нее непьющий, и ребенок скоро будет.
Тяжело привыкала она ходить не спеша. Лишь под самые роды и привыкла, хотя никак не могла признать толковой русскую пословицу, слегка, впрочем, ею переиначенную: тише ходишь — дальше будешь! Вот уж неправда…
Из своего переулка Венера с предписанной степенностью вышла к остановке. Створки автобусных дверей, заросшие плотным ворсом матового полуинея-полульда, с заминками ползли навстречу друг дружке… Бежать или нет? Решилась-таки — и напрямик: через сугробы. С трудом выпрастывала из хрупкого лежалого снега свои на заказ шитые сапожки, чуть не падала, но цепко держала взглядом медленно-медленно сползавшиеся створки. Старалась не зря…
Автобус уже миновал пару остановок, когда ей стало нехорошо. Сами собой смежились веки… Откуда-то выпятилась широкая, рыхловатая немного грудь Бори с нелепо черневшими на месте сосков большими пуговицами. Пришиты они были тонкой серебристой проволочкой, очень надежно — квадратом да крест-накрест еще… И жестки, жестки! В испуге за Борю Венера с усилием разводит веки и сквозь плывущие перед глазами серые круги видит незнакомые лица, хоть и расплывчатые, но не страшные, сочувствующие. Пуговицы же, вернее, пуговица, не исчезают. Венера не видит ее, но чувствует щекой. Пуговица на полушубке стоящего рядом с ее сидением старика. От полушубка разит бензином… Венера, с трудом подавляя раздражение, неожиданно вызванное запахом бензина, снова закрывает глаза. И… Рыжие строчки (будто на экране в начале фильма), кажется, ниоткуда, из тьмы, одна за другой подымаются, подымаются и опять во тьме пропадают. Их смысл одновременно и связен, и нет, сумбурен: «Метафизика этого… Алеши… Как его? Карамазова…» Да черт с ним, только он не физик. Врет мужик в предисловии, а еще доктор наук каких-то там! Никакой физикой этот Алеша не занимается. Другое дело, что «с приветом» он! При чем тут физика? Ну, «мета» эта самая… У Бори надо про нее спросить. Его ж книга… «Папа, ты фашист! Когда я вырасту, я тебя убью! Петя (жирно зачеркнуто) Петр!» А сам Боря мне это письмо не показал. Не возьмись я за книжку, или, скажем, терпенья дочитать такую тягомотину не хватило б, и не узнала бы! Письмо-то на сто восемьдесят третьей странице лежало. За что ж это Петя убить Борю хочет? Боря говорил, что Пете еще и одиннадцати нет… Но не с бухты, конечно, барахты… Та жена, небось, настраивает? Из-за меня, скажем? А может, и нет… Ладно, их дело! Меня Боря жалеет, балует. Перемелется все.
Уплыла в никуда последняя рыжая строчка, и Венере чудится, что Боря знакомо обнимает ее, со знакомой нежностью гладит по отвердевшему, до пугающего большому животу и шепчет знакомое:
— Прыгает… Как и тогда, как Пе… — Боря вдруг осекается и начинает плести какую-то обратную тому, что на самом деле некогда говорил, галиматью: — То есть давно очень… Я тогда еще зайчонком был. Играли мы с другими зайчатами на лугу и Борю, маленького совсем, поймали! Взял, помню, Борю на руки, а у него сердчишко точь-точь вот так же…