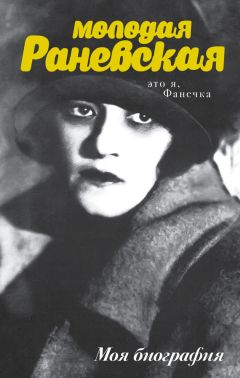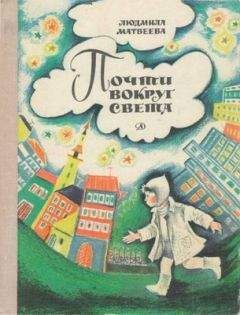Андрей Богословский - До порогов
Люди на пароходике просыпались неохотно, медленно. Так просыпаются обычно, когда прожили трудный день, провели дурную ночь, а утро тоже не сулит ничего хорошего, и уж лучше бы еще лежать с закрытыми глазами и не видеть ничего, не начинать наново дневное бестолковое вращение. Изредка перебрасывались словами, медленно жевали нехитрую снедь и долгими взглядами провожали реку и берега. Могуч был Енисей под тусклыми, негреющими лучами солнца, высоки и круты были его берега, поросшие темным лесом. И как бы радовалось сердце навстречу этому дикому простору, если б не холод, не голод, не медлительный плеск допотопных колес, не бесконечные заботы, беды, страдания, болезни — все то, что делало людей хмурыми и безучастными к величию природы.
— С детями всегда забота, — говорила Настя, поднимая воротник полушубка и приваливаясь к брезенту. — С Вовкой тоже я намучилась, кто б знал. Связался он со шпаной на заводе, курил, спирт пил… Э-э, кабы не добрые люди, кабы не мастер Пантелей Петрович, так чтоб из его вышло — неизвестно. А теперь жив-здоров, военнослужащий, сто восемьдесят ростом и поперек себя шире.
— Нет, мой тихий был, худенький, — Надежда Георгиевна усмехнулась. — Он в сорок четвертом тайно от меня в военкомат направился, в добровольцы решил идти. А в военкомате ему сказали: ты, мальчик, сперва семилетку закончи… А уж ему почти семнадцать было.
— Ваш где теперь? — спросила Настя, глядя в небо.
— Он в Москве, на заводе пока, а потом в техникум хочет.
— Мой тоже. — Настя вздохнула. — Отслужу, говорит, мама, и в техникум пойду. Да чего говорить, их жизнь, молодые, пускай как хотят, так и живут… А муж-то что говорит?
Надежда Георгиевна промолчала.
— Он воевал у вас? — спросила еще Настя, все глядя в небо.
— Нет.
— А что ж, всю войну на Севере? Тоже дела… — Настя скривила губы. — Офицер?
— Нет, Настя, — тихо молвила Надежда Георгиевна и почувствовала, что бронхи наполняются предощущением приступа кашля. — Он не офицер. Мой муж был заключенным, в течение десяти лет. Теперь его расконвоировали, и мне разрешили свидание… — Она тяжело вздохнула.
Некоторое время стыло молчание, гудела машина, шлепали колеса.
— Проворовался? — раздался странный, далекий голос Насти.
— Ну нет! — Надежда Георгиевна сдержала кашель. — Он… он честный человек. Так вышло, что его судьба… Не всегда у всех было в это время ощущение… Ну-у, когда…
— А-а-а-а… — прервал ее сбивчивую речь голос Насти. Она не изменила положения, и лишь глаза ее впрямую смотрели на Надежду Георгиевну, смотрели неожиданно яростно, поедая двумя жалами черных точечных зрачков. — Политический? Враг народа?
— К сожалению, так многие считают… — заговорила Надежда Георгиевна, но осеклась. Уж слишком нестерпимым был взор Насти, режущий, ненавидящий (это она сразу почувствовала), хотя Настя так и сидела, не сдвинувшись. — Что… — проговорила Надежда Георгиевна. — Что, Настя?..
— Га-а-а… — как-то странно выговорила та, не отводя этого своего дикого взгляда. — Га-а-ады! Вы… Вы… — Она чуть приподнялась на локте. — Мой мужик под пулями голову сложил, под немецкими пулями… — Она задохнулась. — Га-а… гады!..
— Нет, Настя, — спокойным, убедительным голосом постаралась сказать Надежда Георгиевна, ибо ей знакомы были эти взрывы подозрения, недоверия со стороны самых разных людей, когда они узнавали, что ее муж репрессирован как политический. — Он всю войну просился на фронт, но его не брали. Их почему-то…
— А-а-а!.. — пропела опять Настя понимающим, тонким голоском. — Не брали?.. Гадов, сволочей, фашистское дерьмо не брали? Чтоб они к немцам драпанули? Не брали?!. — Она еще чуть привстала с расширившимися, словно невидящими глазами. — Не брали? До… — она всхлипнула. — До десятого колена вас, фашистов, гадов убивать надо! Родину, Россию продать хотели, Гитлеру сапоги лизать! Звери!!! Из- за таких, как твой гад, как ты, моего мужика убили, наших мужиков всех, всех поубивали… Шпионы!! — последнее она выдохнула со змеиным шипением.
— Настя! Как вы можете! — лишь воскликнула Надежда Георгиевна.
— Молчать! — хриплым шепотом выговорила Настя, и даже под толстым полушубком было видно, как напряглось все ее тело. Кулаки сжались, глаза так расширились, что даже закосили. — Мужик мой гниет в земле, сынок мой, жизнью рискуя, храняет врагов родины, а вы, вы… Я тебе всю себя… Мясу ела мою рабочую, смертью добытую…
— Мы тоже работали, Настя, — сползая губами вниз, с отчаянием сказала Надежда Георгиевна, все еще сдерживая рвущийся кашель. — Мы не враги… Мы не враги… — Кашель рвался, бился в бронхах, подступал к горлу.
— Я руки твои смотрела, — как бы с удивлением проговорила Настя, растопыривая свои пальцы. — А в те поганые руки Гитлер пятаки бросал за нашу кровь… Враги! Фашисты!!! — И тут она разразилась таким мощным потоком ругательств, что опять проходивший мимо матросик в тельняшке замер, надул смешно щеки и с уважением прислушался.
— Ну, бабочка, — сказал он, — ты даешь… —
И, покачивая головой, отошел.
Лишь немногие головы, приподнявшись от палубы, глянули на женщин, но уж привыкшие и к ругани, и к странным сценам этой жизни, опять срослись с плоскостью парохода.
Настя замолчала, сплюнула со смаком и отвернулась. Только плечи ее вздрагивали — она плакала беззвучно, надрывно. Надежда Георгиевна тоже молчала, но глаза ее были сухи. Больше говорить им было не о чем, все внезапно разорвалось, все было сказано. И тут кашель добрался до верха, резанул, ударил в горло, в нёбо, закачал тело и долго бил и душил ее хрупкую, исхудавшую фигуру. Платок весь покраснел от кровавой слюны. А когда кончился приступ, пришло полное опустошение. Тихо стало и как-то ненужно. Она подняла глаза, повела ими по скорченной спине Насти и вновь встретилась с глазами старика. Бесстрастно было его лицо, глубоки глаза, и лишь губы со струпом чуть-чуть дрожали, и оттого страшно ей стало.
«Я еду, — билось в голове Надежды Георгиевны. — Еще раз… Опять то же самое… Еще раз… Господи, да есть ли этому конец?.. Есть ли вообще конец всему этому, этой реке, этому пароходу, этой беде людской?.. За что ж такое?!.»
И пока пароходик шлепал колесами по черной воде великой реки, меж дальних, отвесных берегов, до самых порогов, лицо ее не изменило выражения тоски и давнего больного вопроса. Несколько раз вплывали в туман, такой плотный, что он скрывал живущие рядом с ней тела Насти и старика, и тогда, в этом тумане, раздавался хриплый пароходный гудок.