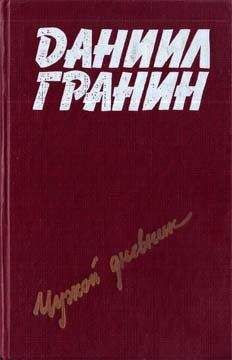Даниил Гранин - Примечание к путеводителю
Фарадею был тридцать один год, когда он записал в своей книжке: «Превратить магнетизм в электричество». Так записывают себе задания в перекидном календаре. В карман сюртука он положил медную спираль и железный брусок. С тех пор он носил их постоянно, то и дело вынимая, принимаясь по-всякому вертеть в руках. Куда бы он ни шел, что бы ни делал, всегда с ним были спираль и брусок. Брусок был магнитом, спираль — проводником. Одновременно с ним во Франции над этой проблемой думали Ампер и Араго. Спустя три года Ампер отступился, он решил, что электрический ток посредством магнита получить невозможно. Фарадей упорно продолжал вертеть в руках свою спиральку и брусок. Он занимался светом, электрохимией и магнетизмом и неотступно размышлял над своей главной задачей. Конечно, он не знал, насколько она окажется главной среди всех его открытий, его не занимали практические результаты: революция в энергетике, электростанции, генераторы, двигатели — все, к чему приведет его открытие. У него было лишь ощущение связи двух явлений, один из секретов природы, который он хотел разгадать: спираль и брусок. Шли годы, усилия его ни к чему не приводили. А впрочем, неверно, он постоянно получал результаты, неважно, что отрицательные, важно, что он что-то узнавал, — это процесс познания, счастливый уже сам по себе. Спустя десять лет он получил и тот самый результат, тот знаменитый, конечный, исторический, который осветил весь его путь светом славы и успеха. За несколько дней он провел опыты, и открытие его отлилось в наиболее совершенную, может быть, идеальную форму. Через полвека другой великий физик, Максвелл, писал: «…самые опытные физики не смогли избежать ошибок, когда они пытались описать открытия Фарадея и проверенные им явления более научным языком, чем сделал сам Фарадей. Уже прошло полвека со времен Фарадеева открытия, и безмерно умножились как способы его практического использования, так и значение их для жизни. И в этой практике ни разу не обнаружилось ни малейшего противоречия или исключения из тех законов, какие установил Фарадей. Больше того, та первоначальная форма этих законов, какую придал им Фарадей, остается до нынешнего дня единственной…»
Среди поучительных, анекдотических, хрестоматийных историй великих открытий открытие Фарадея антилегендарно. Не падало яблоко, не прыгала крышка чайника. Случай не приходил на помощь. Не было озарений, счастливых стечений обстоятельств. Порода, которую он долбил, была слишком крепка, ему пришлось пройти весь путь без льгот и нечаянных находок. Десять лет он отбирал вариант за вариантом. Гениальность его состояла не из школьного терпения и трудолюбия. Он умел изобретать все новые комбинации, задавать все новые вопросы. Воображение его было неистощимо. Так Иоганн Бах возводил свои фуги, извлекая неисчерпаемые вариации из одной темы. Так Хемингуэй в романе «Прощай, оружие!» тридцать семь раз переписывал последнюю страницу. Тридцать семь раз — какой поучительный пример для молодых писателей! Вот вам, милые, образец добросовестности и высокой требовательности к своей работе!
Но даже когда я стал немолодым писателем, мне при всем желании не удавалось больше шести-восьми раз переписывать незадавшуюся страницу. Я переставал видеть, чтó там плохо. Зато я понял, что такое большой талант. Тот же Хемингуэй мог написать с ходу, без помарок совершенную вещь, но нужен был великий талант Хемингуэя, чтобы тридцать семь раз найти, что переделывать, увидеть заново, иначе, лучше.
Фарадей не ослеплял гениальностью. Гением можно восхищаться, ему нельзя подражать. Почти полностью потеряв память, Фарадей продолжал исследование. Память для экспериментатора — то же, что слух для композитора. Это было так же мучительно, как глухота Бетховена. Трагедия сближает великих людей с человечеством. Мужество Фарадея стало для меня одним из примеров. Прошло столько лет, и время не повлияло на оценку его жизни. В ней ничего не превращалось в заблуждение, не становилось наивным. Я знал, что он похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с Ньютоном, и действительно, рядом лежала большая плита — Исаак Ньютон, и за ней опять маленький камень — В. Томсон. Тут же лежали плиты с именами Максвелла, Ч. Дарвина, Вильяма Гершеля и сына его, также знаменитого астронома, Джона Гершеля.
В биографиях великих ученых для меня наиболее волнующим и таинственным было выявление личности, как они находили себя. Они еще не знали, что им суждено, и я, переживая, следил, как они сбивались, плутали, нащупывая свое призвание. С тревогой следил я за Вильямом Гершелем, когда отец зачислил его в полк музыкантом-гобоистом. Как Гершель через несколько лет дезертировал, бежал в Англию, стал там учителем музыки, как он от теории музыки перешел к математике, от нее к оптике и, наконец, нашел свою астрономию.
На памятнике Ньютону были строчки: «Да поздравят себя смертные, что существовало такое и столь великое украшение рода человеческого».
Я был тот самый смертный. Я почувствовал, как много значили для меня примеры этих жизней. Они действительно украшали человеческий род, это было точно сказано, и ценность этих украшений не меняли ни мода, ни вкусы, ни наша запоздалая мудрость. Они помогали нам оставаться язычниками, не сводить нашу веру к единому, единственному божеству, одному великому, непогрешимому, мудрейшему, тому, кто мог решить любую проблему философии, конструкции стрелкового оружия и сбора хлопка.
Мои боги не имели ни власти, ни прав… Но сейчас я не собирался сравнивать, я слишком был занят ощущением встречи. Могила пробудила во мне древнее, не истребленное никаким воспитанием чувство: хотелось опуститься на колени, прикоснуться рукой к этим плитам. Постоять, мысленно общаясь с теми, кто лежал здесь.
…Разбитый автобус трясся по булыжнику шоссе. Сквозь дрему я услыхал голос кондукторши: «Пушкинские Горы». Не успев понять, что я делаю, я выскочил на остановке, оглянулся. Был вечер, осенний, ветреный. Автобус ушел. Мне надо было ехать еще далеко, в совхоз, но я пошел в гостиницу и обрадовался, что там нашлась свободная койка. У меня не было в Пушкинских Горах знакомых и не было никаких дел. Я перекусил в чайной и лег спать. Посреди ночи что-то меня разбудило. По лунному сводчатому потолку метались тени ветвей. В нескольких шагах от меня, в монастырском дворе, лежал Пушкин. Вдруг это соседство, его присутствие ощутилось как неповторимое событие. Я встал, оделся, вышел в монастырский двор и поднялся по шумным от палых, сухих листьев ступеням к церкви. При свете луны я нашел белый камень. Долго сидел перед могилой, среди ночных шорохов и треска падающих листьев. Из таких встреч и складывается жизнь человека. Где-то, к концу пути, выявляется, что было их совсем немного, может, несколько часов или, если повезет, дней. И события-то никакого не было, а ведь запомнились навсегда со всеми красками и зябкостью эта ветреная ночь у могильного камня, крик петухов, как блестела луна на траве, темная громада церкви, монастырские стены, счастливое чувство связи времен, того, что связывало меня с Пушкиным, и того, что будет и после меня, с кем-то затерянным в будущем, эта река времени, что шла сквозь меня, — я отчетливо ощутил ее мирный, устрашающий и благотворный ход.
И вот сейчас я вспомнил ту ночь в Святогорском монастыре. Сколько раз видел я на картинах этот монастырь и могилу Пушкина, так же как и фотографии надгробия Ньютона, — ну и что из того? Никакие знания и сведения не могли заменить моего присутствия и дать этих минут. Эффект личного присутствия — так называют его психологи.
Разноязычный гул поднимался к сводам аббатства. Шли экскурсии, туристы бродили, выискивая знакомые памятники, надгробия, капеллы. В боковых притворах горели свечи, священники справляли службу. Толпы туристов окружали надгробные статуи Марии Стюарт и Елизаветы. На скамьях молящиеся. Лица их были отрешенны, сосредоточенны. Они не обращали внимания на суету у могил Шелли, Байрона, Киплинга, на гидов, показывающих могилу Неизвестного солдата. И я тоже не хотел никуда идти, ничего смотреть. Я стоял у дорогих мне камней и думал о том, что никогда уже не стану ученым, что моя мечта о науке не сбылась. Ничего не осталось ни от детства, ни от юности, от победных, веселых надежд, ничего, кроме горьковатой любви к этим великим именам. Но и за это я был благодарен им, и за то, что вот сейчас они заставили меня думать о том, правильно ли я жил. Когда-то паломники шли к святым местам приобщиться, исполниться благодати, и это было не так уж глупо.
С вышины под сводами собора падали, скрещиваясь, широкие лучи света.
— Пошли, — сказал мне кто-то из наших. — Пора.
— Сейчас.
Я еще постоял, прощаясь. Какая-то группа туристов подошла к гробнице Ньютона.
— А, Ньютон! О, Ньютон! — И они расположились фотографироваться так, чтобы видны были доска, надпись и они сами. Фотограф встал на полустертую плиту Майкла Фарадея.