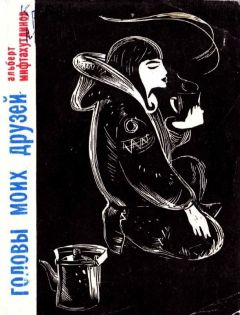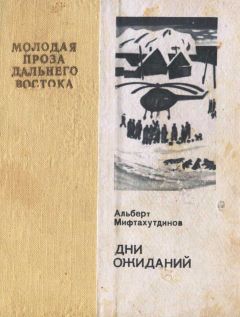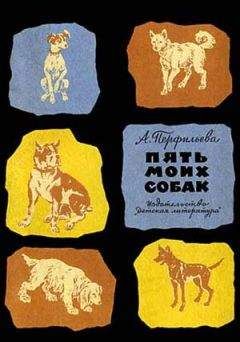Иван Лазутин - Родник пробивает камни
— Вся Красная площадь… пела… — Голос Петра Егоровича дрогнул.
— Что вы пели, Петр Егорович? Не помните слова этой песни?
— Такое не забывается. — Несколько помолчав, старик распрямил плечи и, глядя куда-то поверх сцены, туда, откуда падает занавес, глухо, но твердо, словно бросая на сцену не слова, а тяжелые булыжники о Красной площади, проговорил: — Мы пели такие слова:
Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь — тяжелый труд.
Но день настанет неизбежный,
Неумолимый грозный суд…
Всем, кто находился на бутафорских баррикадах, на какой-то миг вдруг показалось, что сцена стала ниже, чем пол зала. Старый ветеран завода Михельсона, революционер-красногвардеец Петр Егорович Каретников за какие-то минуты неизмеримо вырос в их глазах.
В зале и на сцене стало тихо. Так порой бывает, когда вдруг неожиданно останавливается киноаппарат и перед глазами зрителей некоторое время стоит один и тот же застывший кадр.
Все, что прочитал режиссер и что рассказал дедушка, Светлана слышала впервые. Теперь для нее уже не было вопроса, играть ей Павлика Андреева или не играть.
Репетиция продолжалась…
Светлана отчетливо и громко произносила фразы текста. Их подсказывала ей Серафима Цезаревна — подслеповатая суфлерша в больших роговых очках. Ее маленькое круглое личико всякий раз судорожно дергалось в сторону, где находился исполнитель роли, которому предназначалась очередная реплика. Это была уже далеко не молодая, с морщинистым и нервным лицом женщина, работница заводской библиотеки. На завод она пришла в двадцатых годах, почти девочкой, которую при ее малом росточке было еле видно из-за библиотечной стойки. Однажды, в тридцатые годы, — а этот вечер Серафима Цезаревна отчетливо помнит и сейчас — ее попросили посуфлировать репетицию спектакля «Платон Кречет». Симочке это понравилось, и с тех пор она не могла смириться с мыслью, что кто-нибудь другой, а не она, будет повергать в напряжение всех, кто находится на сцене ставшего для нее родным Дома культуры на Большой Серпуховской.
По резкому и повелительному взмаху руки Корнея Карповича Светлана, не страшась разбиться и наставить синяки на локти и коленки, стремительно плюхаясь с «винтовкой» в руках (винтовкой служил сломанный деревянный карниз) на грязный пол сцены и вызывая смех у «соратников по баррикадам», по ремарке пьесы, которую отчетливо произносила Серафима Цезаревна, старательно и глубоко засовывала в рот четыре пальца, чтобы «оглушить Остоженку свистом». Но как Светлана ни пыжилась и ни старалась, кроме шипения, у нее ничего не получалось. На помощь ей приходил Владимир Путинцев. Глядя на розовые пузыри щек Светланы, на ее утонувшие во рту пальцы и в ее широко открытые глаза, которые, кроме испуга, ничего не выражали, он неожиданно резким и оглушительным свистом, от которого у всех, кто находился на сцене, звенело в ушах, заставлял вздрагивать Брылева и сердито хмуриться Петра Егоровича.
…А когда репетиция окончилась и Светлана подошла к Корнею Карповичу, позвавшему ее кивком головы, Петр Егорович по выражению лица режиссера, по его улыбке понял, что игрой и старанием внучки Брылев остался доволен.
— Ну вот, а ты боялась… Через две-три репетиции у тебя будет получаться не хуже, чем у самого Павлика Андреева в семнадцатом году. — Освободив плечи Светланы из тисков своих цепких пальцев, он повернулся в зал: — Как вы думаете, Петр Егорович, ведь получается?
— Получается, — донеслось из зала, — только свистеть нужно самой да волосы как следует укоротить, а то смотришь и не понимаешь — слова мальчишечьи, а по сцене бегает девчонка.
— Все это мелочи, Петр Егорович!.. Когда зритель будет смотреть спектакль, сроду не догадается, что Павлика играет девчонка. Важно, чтобы вот здесь горело, — Брылев поднес правую ладонь к левой стороне груди. — А в остальном положитесь на режиссера…
…Уже поздно вечером Светлана и Петр Егорович возвращались домой. Почти всю дорогу оба молчали.
Перед глазами деда вставала молодость. Бои на Остоженке, штурм Кремля, похороны погибших красногвардейцев… Внучка, полусмежив глаза, видела больничную палату, белые халаты врачей, бинты… На койке лежал умирающий Павлик Андреев. В лице его ни кровинки…
На следующий день Светлана, не спросив ни отца, ни мать, пошла в парикмахерскую и постриглась под мальчишку.
А через два дня соседи по лестничной площадке, дворничиха, а также жильцы дома и знакомые по двору, которые знали семью Каретниковых, разводили руками: что случилось с девочкой? Была такая тихоня, а тут вдруг ни с того ни с сего словно что приключилось. Идет с сумкой в булочную или гастроном — засунув в рот четыре пальца, надсадно свистит; поднимается по лестничной площадке — свистит; не успеет закрыть за собой дверь — из квартиры Каретниковых доносится пока еще дребезжащий и неровный, но уже напористый и тревожный свист…
…Восьмого марта в Доме культуры завода состоялась премьера спектакля. Павлика Андреева играла Светлана Каретникова. Ее фамилия в типографской афише стояла третьей. Набрана она была крупными буквами:
«С. КАРЕТНИКОВА».
А когда окончился спектакль и Светлану, растерявшуюся и не знающую, что делать дальше, почти вытолкали на сцену, и она один на один очутилась с грохочущим валом аплодисментов, несущихся из зала, и в лицо ее брызнули яркие лучи световых вспышек лампы фотокорреспондента из заводской многотиражки, Светлана окончательно растерялась. Она видела только мелькание рук над рядами кресел, слышала прибойно накатывающиеся на сцену возгласы: «Браво!.. Браво!..»
Потом — это она успела заметить — к ногам ее упал маленький букетик фиалок.
Первые аплодисменты… Первые цветы в жизни…
До глубокой ночи Светлана металась в бессоннице. Словно в забытьи, перепутав, где явь, а где игра ее воображения, она шептала:
— Добили юнкеров?.. Штаб взяли?..
ГЛАВА ПЕРВАЯ
До конца смены оставалось полчаса, когда к шлифовальному станку Дмитрия Каретникова подошел начальник цеха. Подняв руку, он дал знать, чтоб тот остановил станок.
— Петрович, зайди после смены в партком, к Таранову, есть разговор.
Сказал и скрылся в железных дебрях грохочущего цеха. Дмитрий Каретников… Его, как и отца, знал весь завод. Фамилия его стояла первой в списке бригады коммунистического труда в цехе. Дмитрий Каретников одним из первых шлифовальщиков на заводе стал проверять обработанные детали на инструментальном микроскопе, а два года назад он изобрел приспособление, благодаря которому можно было шлифовать одновременно несколько деталей.
«Новатор», «изобретатель», «великий выдумщик»… Много лестных и похвальных слов слышал Дмитрий Каретников в свой адрес. О нем не раз писали в заводской многотиражке, писали в больших газетах, его имя не однажды упоминалось в докладах на партийных собраниях, на производственных совещаниях в министерстве, куда и его несколько раз приглашали.
Да и шутка ли сказать: работать с опережением плана на четыре года.
Однако с успехами производственными все ощутимее чувствовал Дмитрий Каретников несладкое бремя известности и славы, которая ко многому обязывала, держала в постоянном напряжении. Районные партийные конференции, официальные встречи иностранных рабочих делегаций, посещавших завод, ознакомление гостей с его новым методом работы, представительство на торжественных собраниях и совещаниях… На все это шли силы и нервы.
Однажды — это было лет десять назад — на первомайском торжественном вечере завода, в перерыве между докладом и концертом, к Петру Егоровичу Каретникову подошел в фойе его старый цеховой друг, еще со времен Михельсона, Иван Никандрович Талызин, старенький токарный станок которого стоял рядом с громоздким «Кингом» Петра Егоровича, и спросил:
— Егорыч, чтой-то сынок твой сидит в президиуме как вареный? Аль занедужил?
— Здоров он, — хмурясь, небрежно ответил Петр Егорович. — Просто не любит казанской иконой в крестном ходу без дела торчать на виду у людей. Не тот характер.
— Так заслужил ведь? — попытался возразить старый пенсионер.
— Носи ее в душе, заслугу-то, себе на здоровье. Храни ее от чужого глаза, а не балуй ею, как зайчиком от осколка зеркала…
Никто так, как отец, не знал, что все почести и публичные восхваления Дмитрия Каретникова больше сковывали, чем радовали. Особенно это чувствовалось первое время, когда Дмитрий пришел с войны и снова встал к своему станку. Сидит, бывало, в президиуме цехового или заводского предпраздничного собрания под обстрелом сотен глаз, и все ему кажется: то у него галстук съехал набок, то он как рак краснеет от напряжения, то вдруг покажется, что кто-то в зале, ехидно поглядывая на него, шушукается с соседом.