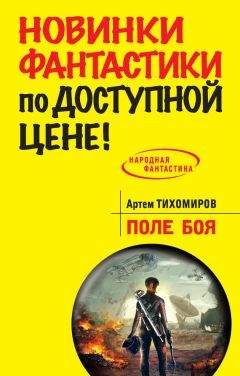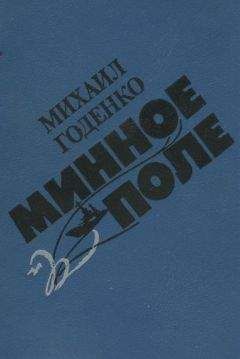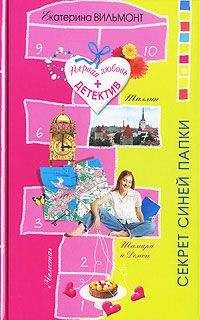Михаил Пришвин - Фацелия
Вот странно, казалось бы, все уже кончено, самка давно вывела, детеныши выросли и улетели… Для чего же старый скворец прилетает каждое утро на яблоню, где прошла его весна, и поет?
Удивляюсь скворцу, и под песню его косноязычную и смешную сам в какой-то неясной надежде, ни для чего иногда тоже кое-что сочиню.
ПтичикПтичик, самый малый, сел на вершинный палец самой высокой ели, и, видно, он там недаром сел, тоже славил зарю; клюв его маленький раскрывался, но песня не достигала земли, и по всему виду птички можно было понять: дело ее — славить, а не в том, чтобы песня достигала земли и славила птичку.
У старого пняПусто никогда не бывает в лесу, и если кажется пусто, то сам виноват.
Старые умершие деревья, их огромные старые пни окружаются в лесу полным покоем, сквозь ветви падают на их темноту горячие лучи, от теплого пня вокруг все согревается, все растет, движется, пень прорастает всякой зеленью, покрывается всякими цветами. На одном только светлом солнечном пятнышке на горячем месте расположились десять кузнечиков, две ящерицы, шесть больших мух, две жужелицы… Вокруг высокие папоротники собрались, как гости, редко ворвется к ним самое нежное дыхание где-то шумящего ветра, и вот в гостиной у старого пня один папоротник наклонится к другому, шепнет что-то, и тот шепнет третьему, и все гости обменяются мыслями.
Неведомому другуСолнечно-росистое это утро, как неоткрытая земля, неизведанный слой небес, утро такое единственное, никто еще не вставал, ничего никто не видал, и ты сам видишь впервые.
Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах одуванчики, и, может быть, где-нибудь в сырости черной тени белеет ландыш. Соловьям помогать взялись бойкие летние птички — подкрапивники, и особенно хороша флейта иволги. Всюду беспокойная трескотня дроздов, и дятел очень устал искать живой корм для своих маленьких, присел вдали от них на суку просто отдохнуть.
Вставай же, друг мой! Собери в пучок лучи своего счастья, будь смелей, начинай борьбу, помогай солнцу! Вот слушай, и кукушка взялась тебе помогать. Гляди, лунь плывет над водой: это же не просто лунь, в это утро он первый и единственный, и вот сороки, сверкая росой, вышли на дорожку, — завтра так точно сверкать они уже не будут, и день-то будет не тот, — и эти сороки выйдут где-нибудь в другом месте. Это утро единственное, ни один человек его еще не видел на всем земном шаре: только видишь ты и твой неведомый друг.
И десятки тысяч лет жили, на земле люди, копили, передавая друг другу, радость, чтобы ты пришел, поднял ее, собрал в пучки ее стрелы и обрадовался. Смелей же, смелей!
И опять расширится душа: елки, березки, — и не могу оторвать своих глаз от зеленых свечей на соснах и от молодых красных шишек на елках. Елки, березки, до чего хорошо!
Реки цветовТам, где тогда мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов.
И мне так хорошо было пройтись по этому лугу; я думал: «Значит, недаром неслись весной мутные потоки».
Живые ночиДня три или четыре тому назад произошел огромный и последний уступ в движении весны. Тепло и дожди обратили нашу природу в парник, воздух насыщен ароматом молодых смолистых листов тополей, берез и цветущей ивы. Начались настоящие теплые живые ночи. Хорошо с высоты достижений такого дня оглянуться назад и ненастные дни ввести, как необходимые, для создания этих чудесных живых ночей.
Глоток молокаЧашка с молоком стояла возле носа Лады, она отвертывалась. Позвали меня. «Лада, — сказал я, — надо поесть». Она подняла голову, забила прутом. Я погладил ее, от ласки жизнь заиграла в ее глазах. «Кушай, Лада», — повторил я и подвинул блюдце поближе.
Она протянула нос к молоку и залакала. Значит, через мою ласку ей жизни прибавилось. И, может быть, именно эти несколько глотков молока решали борьбу в пользу жизни. Таким глотком молока и решается в мире дело любви.
ХозяйкаКакая отличная хозяйка и мать эта Анна Даниловна: две комнаты в полном порядке, несмотря на то, что четверо маленьких и сама еще служит уборщицей в билетной кассе железной дороги. Вспоминаешь старую деревню, погруженную в навоз, неухоженных детей, пьяниц, расположившихся на бабьем труде… как будто на небо поднялся! Но когда я об этом сказал Анне Даниловне, она очень запечалилась и сказала мне, что очень тоскует по своей родине, все бы бросила и сейчас бы туда поехала.
— А вас, Василий Захарович, — спросил я мужа ее, — тоже тянет в деревню, на родину?
— Нет, — ответил он, — меня никуда не тянет.
Оказалось, он из Самарского края и единственный из своей семьи спасся в 1920 году от голода. Мальчиком он поступил в деревню в батраки к старику одному и ушел от старика без гроша. Только вот взял себе в деревне Анну Даниловну и поступил рабочим на судоверфь.
— Почему же вас на родину не тянет? — спросил я его.
Он улыбнулся, чуть-чуть перемигнулся с женой и стеснительно сказал:
— Вот моя родина.
РомашкаРадость какая! На лугу в лесу встретилась ромашка, самая обыкновенная «любит — не любит». При этой радостной встрече я вернулся к мысли о том, что лес раскрывается только для тех, кто умеет чувствовать к его существам родственное внимание. Вот эта первая ромашка, завидев идущего, загадывает: «любит — не любит?» «Не заметил, проходит, не видя: не любит, любит только себя. Или заметил… О, радость какая: он любит! Но если он любит, то как все хорошо: если он любит, то может даже сорвать».
ЛюбовьНикаких следов того, что люди называют любовью, не было в жизни этого старого художника. Вся любовь его, все, чем люди живут для себя, у него было отдано искусству. Обвеянный своими видениями, окутанный вуалью поэзии, он сохранился ребенком удовлетворяясь взрывами смертельной тоски и опьянением радостью от жизни природы. Прошло бы, может быть, немного времени, и он умер, уверенный, что такая и есть вся жизнь на земле…
Но вот однажды пришла к нему женщина, и он ей, а не мечте своей пролепетал свое люблю.
Так все говорят, и Фацелия, ожидая от художника особенного и необыкновенного выражения чувства, спросила:
— А что это значит «люблю»?
— Это значит, — сказал он, — что, если у меня останется последний кусок хлеба, я не стану его есть и отдам тебе, если ты будешь больна, я не отойду от тебя, если для тебя надо будет работать, я впрягусь как осел…
И он еще много насказал ей такого, что люди выносят из-за любви.
Фацелия напрасно ждала небывалого.
— Отдать последний кусок хлеба, ходить за больной, работать ослом, — повторила она, — да ведь это же у всех, так все делают…
— А мне этого и хочется, — ответил художник, — чтобы у меня было теперь, как у всех. Я же об этом именно и говорю, что наконец-то испытываю великое счастье не считать себя человеком особенным, одиноким и быть, как все хорошие люди.
1940