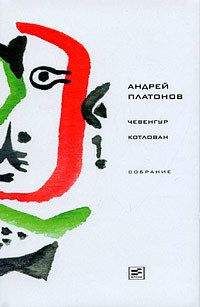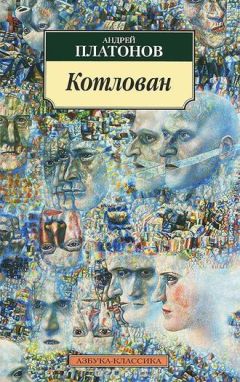Андрей Платонов - Чевенгур
Однако в его безумных на первый взгляд действиях и речах своя правда. Роза Люксембург не просто Прекрасная Дама рыцаря революции: «…он считал революцию последним остатком тела Розы Люксембург и хранил ее даже в малом». Не Роза — от революции, а революция — от Розы. Роза — как бы Грааль, а революция — капля из этого святого сосуда. В Копенкине — высокий пафос, но наполнение его совершенно смехотворно. Энтузиазм борьбы за обретение Абсолюта облекся в псевдорелигиозные формы. В жалкой эпопее Копенкина сохранены структуры рыцарской христианской мистики и героического крестового средневековья. Небо всеобщего блаженства берется штурмом, истреблением «неверных».
Тут-то и есть главная загвоздка: убей всех буржуев и разную «остатнюю сволочь», объединись все пролетарии, товарищи, босота — и наступит коммунизм. Об этом на протяжении книги размышляют все без исключения герои. Это что-то сияющее и прекрасное, «новое небо и новая земля», где сердце обретает желаемое и не тоскует. Самое глубинное всплывает во снах Копенкина: хоронят Розу, а это и не Роза вовсе, а его мать. Мать — его прошлое, его природные корни, самая близкая причина его самого. И на сыне, как всегда у Платонова, лежит вина за ее смерть и долг искупить эту вину. Роза — как бы богоматерь, богоматерия, начаток будущего искупления, претворения смертной плоти в нетленную, превращения разделенности, «неродственности» мира в вечное братство. Для чего же еще к ее гробу длится путешествие души в Копенкине?
Но как ни пытается эта душа поверить в уже готовый источник спасения — в последнем, самом честном усилии она его не находит: «Постепенно в его сознании происходил слабый свет сомнения и жалости к себе. Он обратился памятью к Розе Люксембург, но увидел только покойную исхудалую женщину в гробу, похожую на измученную роженицу». Роза — мертва, она лишь женщина, и ее тоже надо спасти из могилы. Прежде чем черпать в Граале живую кровь преображения, его, оказывается, надо создать самим. Но как самим, таким жалким, темным? Как самих себя поднять за волосы?
А Копенкин с Двановым все едут по равнине к дальнему горизонту своей мечты, который встает «как конец миру», «где небо касается земли, а человек человека». По пути — деревня Ханские Дворики, где уполномоченный переименовал себя в Федора Достоевского, а за ним и весь актив взял себе имена исторических знаменитостей. Сколько веков пропадали они «в безмолвном большинстве», в невнятной для памяти и истории массе, сколько боли и ущемленности накопилось у этих бедных детей жизни, лишь глядевших через забор на блестящие игрушки других, нарядных и счастливых! И вот совсем как дети волшебным «понарошку», произвели они себя в Колумбов и Францев Мерингов, в тех избранных «ученых», которых человечество выделило и уберегло от смерти в культуре. А в коммуне «Дружба бедняка», куда после Ханских Двориков попадают путешественники, все члены ее правления занимают должности и носят длинные и ответственные названия. Та же трогательная и жалкая, детская компенсация прежней своей униженности: никто не пашет и не сеет, чтобы от высокой должности не отрываться.
С «Федора Достоевского» разворачивается в романе парад типов революционного времени. Вот попадают наши путешественники в «Революционный заповедник товарища Пашинцева имени всемирного коммунизма». Пашинцев — безумец идеи сохранения «революции в нетронутой геройской категории». Он в средневековых доспехах сидит на бомбах в погребе, устрашая ими всякое возможное нападение врагов и властей, наводящих будничный порядок. Яростный наскок на будущее, безумная попытка волевым усилием и горением нетерпеливого сердца преобразить людей и мир захлебнулась. Пашинцев декретирует губернской босоте вечное воскресенье пролетарского счастья: пятый год идет даровое разбазаривание бывшего помещичьего имения. Объективная действительность с ее необходимыми законами вызывающе выносится за скобки — на то и заповедник.
Права этой неотменимой действительности хранит и выражает целый пласт персонажей, проходящих фоном в этом романе о неистовых преобразователях. Их голос звучит в протесте против дотла разоряющих народ крайностей продразверстки, против декретивных увлечений собственных и наезжающих активистов. Крестьянин из Ханских Двориков так убедительно развернул нелепость уравнительного дележа скота, все его плачевные последствия для благосостояния деревни, что «народ окаменел от такого здравого смысла». А кузнец Сотых, своего рода трезвый народный аналитик, так припечатал главу чевенгурцев: «Ишь ты, человек какой… хочется ему коммунизма — и шабаш: весь народ за одного себя считает!»
В слове платоновских героев, впервые выходящих к мысли и ее выражению, царит детское, обновляющее косноязычие. Тут нет места речи гладкой, выученной, автоматизированной, оглядывающейся на долгую культурную традицию. Но в этом случае для читателя есть опасность поверхностного смакования такого стихийного, новорожденного слова. Ошарашась впечатлением от терпкой, низовой речи персонажей, читатель часто пропускает ее глубину. А между тем в их уста Платонов влагает свои самые смелые мысли. Удивительный стиль писателя при всей его тонкой эмоциональности особо аналитичен. Автор не озабочен объективным переносом природы или человека как они есть. У него мысль о мире, мысль, мучающаяся чувством, формирует сам окружающий мир. Эта мысль рождается на глазах через рождение слова. У Платонова поразительная способность думать в самой фразе словами, их сочетаниями и столкновениями. Мысль идет наикратчайшим путем, ярко и точно, как вспышкой молнии, сваривая любые слова, самые нужные, не обращая при этом внимания на необходимые логико-грамматические швы. Однако вернемся к главным героям «Чевенгура».
Сконструировать жизнь как идеальную схему — вот над чем напряженно думают механики новой жизни. Дайте нам голое место, с которого все можно начать сначала, где нет сопротивления среды и человеческой природы, — крик души всех рыцарей идеи в романе. И заповедник Пашинцева, и Чевенгур — попытки осуществить такое голое место. Можно уничтожить всех, кто сопротивляется или может сопротивляться идее, но себя-то не уничтожишь. Собственная бедняцкая натура темна и тосклива: идея воплощается в наличном людском материале, в наличной действительности и застывает в нелепой, страшноватой карикатуре. Смех тут горький, над самим собой. Смех, и жалость, и бессилие. И понимание железной неотвратимости еще более страшного будущего.
Единодушие, желание быть как одна душа — разве это не великая, не божественная идея! А что выходит? Все механически голосуют, потому что — как же можно не со всеми, против родного коллектива и собственной власти? А потом — для разнообразия и усложнения жизни — члены правления «Дружбы бедняка» закрепляют навсегда одного человека, чтобы был «против», а другой чтоб сомневался и воздерживался.
«Как такие слова называются, которые непонятны? — скромно спросил Копенкин. — Тернии иль нет?» — «Термины», — кратко ответил Дванов». Все опутаны «терниями» слышанных на митингах и спускаемых сверху терминов, но и сами научились при случае ими в столбняк вгонять. Как мучаются бедные чевенгурцы над премудрыми циркулярами из губерний — и, наконец, разрешаются невообразимыми толкованиями их.
В городе Чевенгуре организовался полный коммунизм, но этот «коммунизм» совершенно особый — «коммунизм» народной утопии. Осуществить сокровенные чаяния души — так поняли коммунизм чевенгурцы. Устраивается обитель душевного товарищества, монастырь абсолютного равенства. Никакого преобладания человека над человеком — ни материального, ни умственного, — никакого угнетения. Для этого изничтожается все — собственность, личное имущество, даже труд как источник приобретения чего-то нового. Все, кроме голого тела товарища. Разрешены только субботники, когда рвутся с корнем сады и дома, идет «добровольная порча мелкобуржуазного наследства».
Чтобы «обнять всех мучеников земли и положить конец движению несчастья в жизни», в Чевенгур собирают самых несчастных людей земли — «прочих», бездомных бродяг, без отца выросших, матерью брошенных в первый же час своей жизни. Когда глава чевенгурцев Чепурный видит массу «прочих» на холме при въезде в Чевенгур — почти голых, в грязных лохмотьях, покрывающих уже не тело, а какие-то его остатки, «истертые трудом и протравленные едким горем», — ему кажется, что он не выживет от боли и жалости. Раз есть такие, нельзя быть счастливым. Сердце готово отринуть все, чтобы их спасти. Ибо уровень благополучия мира должен измеряться по ним, а не тешиться средней цифрой, обманной и безнравственной.
«Прочие» — идеальный материал для чевенгурского товарищества. Вот и сгрудились малые, душу другого сделали своим главным занятием. Запрет трудиться переступается, но только для того, чтобы все делать не для себя, а для товарища. Дванов, как когда-то молодой Платонов, занимается работами по искусственному орошению, чтобы сохранить от превратностей природы единственный капитал — своих товарищей, коллективное святое тело чевенгурского коммунизма. Доходят до того, что начинают делать друг другу памятники из глины.