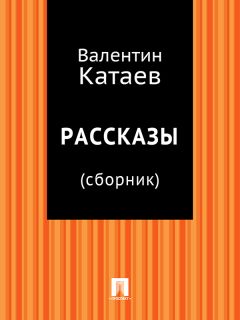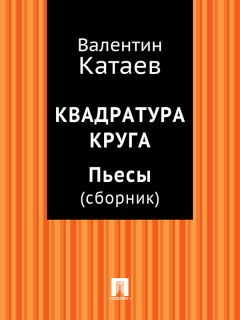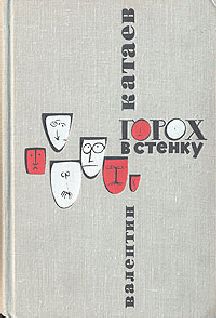Иван Катаев - Сердце: Повести и рассказы
Через все рассказы и повести Ивана Катаева проходят постоянным поэтическим мотивом воспоминания об эпохе гражданской войны. В «Поэте» (1928) эти старые впечатления оживают непосредственней и полней, чем где бы то ни было. Здесь время и люди гражданской войны оказались необыкновенно просто и интимно приближенными к нам. Иван Катаев пишет о них без всякой выспренности, очень точно и откровенно, как очевидец и соучастник событий, как человек общей с ними судьбы. И снова герои его предстают перед нами одновременно и одержимыми романтиками, какими делали их высокие идеалы, ими исповедуемые, и простыми смертными, какими создала их природа, людьми, обреченными жесткими условиями существования на страдания. Мечты и болезнь, любовь и похоть, стихи и пшено, сложные отношения между собой и общая судьба — все это предстает в повести в замечательной цельности и единстве.
На первом плане — нелепо трогательная фигура «пролетарского поэта» Гулевича, поразившего воображение юного героя повести. Надо думать, что Ивану Катаеву приходилось видеть в своих пролеткультовских «учителях» черты, свойственные Гулевичу, и он собрал их воедино в этом образе, ставшем выразительным памятником интеллигенту-мечтателю эпохи «военного коммунизма».
Гулевич, как и многие другие бойцы, погибнет от тифа в грязном весеннем Луганске накануне победоносного наступления 8-й армии. В тот час, когда поэт умирает в больнице, семнадцатилетний герой повести, разогревшись в тепле бани, представляет в полудреме, как все они, усталые, вшивые, голодные, встречаются в счастливом будущем на берегу южного моря: «Ведь будет же все это! — заклинает мальчик. — Господи, будет! Юг — и море, и пальмы, и горы! Ведь кончится же когда-нибудь все здешнее, страшное. Все, все поедем дальше, никогда не расстанемся, будем всю жизнь работать вместе, будем отдыхать у раскрытого окошка, песни петь по вечерам...»
Это писалось в ту пору жизни Ивана Катаева, когда и песни часто пелись вокруг него, и дружеская поддержка ощущалась им в полную силу, когда первые литературные удачи, кипучая деятельность — вся полнота счастливой зрелости захлестывала автора этих слов. И со свойственными Ивану Катаеву совестливостью, благодарной памятью к прошлому, знанием ценности каждой неповторимой человеческой личности он писал о тех, кто не дожил до мирных дней, стремясь сохранить и восстановить во всей живой выразительности черты людей ушедшей эпохи.
В те годы в литературе довольно часто встречался этот мотив — память о жертвах гражданской войны и южный берег моря как воплощение благополучия, построенного на этих жертвах. Чаще всего этот мотив звучал именно так — противопоставление высокой героики революции и пошлой нэповской действительности. Иван Катаев при полной объективности нарисованной здесь картины военного быта и характеров, созданных эпохой, как всегда, внутренне полемичен: у него начисто нет подобного противопоставления. Спор о непременной жертвенности как принципе мировоззрения и о праве каждого человека на счастье, во имя которого и идет борьба, остается неразрешимой дилеммой в разговорах двух героев повести — поэта и мальчика. Это один из центральных ее идейных моментов. Столкновение сумрачного аскетизма и бездумной веры в беспримесное, само собой разумеющееся и скорое счастье предстает в повести знаменательной и наивной чертой мышления героев ушедшей эпохи. Для самого же автора вынужденная жертвенность и законная потребность счастья находятся в нерасторжимом и постоянном взаимодействии, как вообще поэзия и проза человеческого существования: в данном случае поэзия высочайшей человеческой мечты о всеобщем братстве и жестокая неотвратимость физических лишений.
«...И по утрам перед нами, в туманном далеке, как невозможное видение, как высшая, никогда не приближаемая мечта, возникали розовеющие ледяные вершины великого хребта.
Неуклюже зашевелился, загрохотал фургонами, грянул паровозными гудками тяжелый штабарм и медленно выполз из Луганска, навсегда покидая засоренные бумажными обрывками дома, темные, беспамятные дни и неподвижные могилы» — так кончается повесть «Поэт». Между двумя полюсами человеческого существования — высокой мечтой и бессчетными могилами — течет неиссякаемый и противоречивый поток жизни, полноту которого так глубоко ощущал Иван Катаев.
Он не хотел и не умел упрощать события и явления, свидетелем которых ему привелось стать, а были они драматичны. В суровое и тревожное время писался рассказ «Молоко» (1930): в стране проводилась сплошная коллективизация. Иван Катаев стремился по-своему, не спрямляя путей к пониманию сложностей процессов, передать антагонизм социальных сил и запутанность человеческих страстей, влияющих на эти общие, далеко еще не завершенные процессы.
Для недавнего сотрудника журнала «Город и деревня» особенно близки были проблемы кооперативного хозяйства. Они интересовали его и своим будничным конкретным содержанием (как убедить людей в преимуществах кооперации, как вовлечь их в нее, как руководить их организацией, охраняя интересы беднейшего крестьянства?), они волновали его и теми общими высокими надеждами, которые он с ними связывал, пытаясь в 20-е годы угадать будущее своей страны. Ведь угадать его было не так просто, готовых решений не было, будущее создавалось в спорах, в поисках и борьбе. Отказаться сразу от некоторых даже наивных надежд, — наивных с сегодняшней точки зрения, с точки зрения действительного хода истории, оставшегося позади, — было непросто, нелегко. Например, от расчета на возможность создания высококультурного налаженного индивидуального хозяйства крестьянина, опирающегося на централизованную потребительскую кооперацию. Ведь эти надежды и расчеты заключали в себе не только столкнувшееся с жестокостью классового антагонизма прекраснодушие, в котором и кается герой рассказа «Молоко», ласковый и доверчивый кооператор по прозванию Телочка. Эти надежды содержали в себе и глубокое понимание, что крестьянствоваиие сродни поэзии, что его удача предполагает и определенный дар, и высокую культуру землепользования, что кроме экономических и социологических выкладок за ним стоит и органическая близость земледельца к природе, его искусство проникновения в нее, согласования своей пользы с ее законами.
Потому-то старик Нилов, баптист, глава громадной дружной семьи и владелец прекрасного, слаженного как здоровый организм хозяйства, обнаруживший в конце концов и свою собственническую, жадную сущность, и свою человеческую уязвимость, сначала предстает перед читателем в нимбе розовых седин, пронизанных солнцем, в окружении сияющей листвы и золотых пчел, — почти как бог Саваоф, во всяком случае как некое мифологическое воплощение прекрасной близости человека к природе, сре ди которой он существует, к земле, на которой он с любовью трудится. В гимне Нилова молоку безошибочно слышится голос самого писателя. Но как сложно сочетается в самом старом крестьянине его глубокая любовь к земле с корыстью, с собственническими инстинктами!
И весь причудливый рассказ простодушного кооператора, где как-то странно неожиданно врываются в сугубо экономические и политические заботы и споры и молодая страсть, и загадочная женская красота, и национальные предрассудки, и безрассудное злодейство, — этот причудливый сюжет служит тому, чтобы показать неразгаданную сложность и единство мира, где все переплелось и нелегко распутывается. И портреты, и быт, и пейзаж в этом рассказе пластичны и живописны, а стиль повествования по характерности живой разговорной интонации напоминает Лескова. Но конечным итогом рассказа звучит лирическое признание героя в его смятении перед сложнейшими проблемами времени, которые предстояло решать его поколению. Мужественность этого искреннего признания трогает до сих пор: «Боже ты мой! Как еще все смутно, растерто и слитно вокруг! Нигде не найдешь резких границ и точных линий... Не поймешь ни конца, ни начала, — все течет, переливается, плещет, и тонут в этом жадном потоке отдельные судьбы, заслуги и вины, и влачит их поток в незнаемую даль... Не в этом ли вечном течении победа жизни? Должно быть, так. А все-таки страшновато и зябко на душе».
Чувство личной причастности за все происходившее и происходящее в стране, потребность все знать, все видеть самому, все не раз проверить и заставило в 30-е годы Ивана Катаева, художника-реалиста и высокого лирика философского склада, очень много ездить по стране и писать очерки. В работе очеркиста Катаев видел неотложную необходимость времени, он не считал возможным на кого-нибудь ее перекладывать и к тому же не ставил непроходимой границы между своими очерками и рассказами.
В 1930 году он писал на страницах «Литературной газеты»: «Публицистическое освоение современного... материала я считаю наиболее срочным, безотлагательным делом. Грандиозные и стремительные процессы эпохи хочется, прежде всего, обдумать. Полновесное художественное изображение может по необходимости и поотстать. Писатель, особенно обладающий кое-каким журналистским опытом, должен участвовать в прямом публицистическом осознании событий времени. Зрительные представления в этой моей работе призваны играть лишь вспомогательную роль; рисунок идеи лишь слегка тропут пастелью образного. Я отнюдь не считаю такой метод универсальным и пригодным для всех, думаю, однако, что при удаче такая попытка может хоть в малой степени пойти на пользу нашему художеству, очень небогатому мыслью, и нашей публицистике, крайне скудной выразительными средствами». Мы слышим здесь полемический голос идеолога искусства, не только искавшего на практике новые литературные формы, адекватные в его представлении задачам времени, но и теоретически обосновавшего эти поиски, сознательно предлагавшего свои эстетические программы.