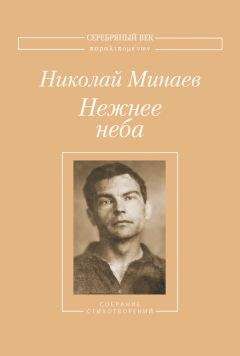Даниил Гранин - Собственное мнение
По реке густо шел последний лед. Местами река была вся белая, как замерзшая. Льдины наползали на гранитные быки моста и мягко трескались, угловатые обломки, кружась, исчезали в пролетах. Перегибаясь через перила моста, Минаев смотрел вниз. Казалось, льдины стоят на месте, а движется мост. От черной воды тянуло холодом, искристые длинные кристаллы льда звенели, ломаясь о гранит, и, мерцая, уходили под воду. Сделав над собой усилие, Минаев оттолкнулся от перил. В груди у него закололо, и сразу стало жарко. Сняв шляпу, он рукавом вытер пот. Холодные капли дождя обжигали горячую кожу.
Он почувствовал себя старым и навсегда усталым. Он вдруг увидел себя со стороны — обрюзгший, лысый мужчина, сутулясь, пришаркивая, идет по мосту, стиснув в руке шляпу. Боже, как быстро он состарился! Когда же это случилось? Он, Володя Минаев, запевала школьного хора, секретарь факультетской ячейки… Ему вдруг стало страшно — неужели он уже старик?
С пугающей явственностью возник перед ним Володя Минаев, яркоглазый, с прыщавой цыплячьей шеей, таким, каким он пришел на «Сельхозмаш». Ты помнишь ту историю с подвеской мотора? Пожалуй, с этого началось? Он помнил. Начальник цеха сказал ему: «Тебе, Минаев, еще рано высовываться. Куда ты лезешь со своими силенками против главного конструктора? Он тебе все будущее закроет. Что ты есть? Мастер. Таких глотают, не разжевывая». Он помнил свое унизительное бессилие, когда главный конструктор, прихлебывая чай, выслушал его страстную речь и сказал, умышленно перевирая фамилию: «Послушайте, вы, Линяев, если вы сунетесь еще раз с этим абсурдом, я вас выкину с завода. Идите». Вместе с друзьями он еще пробовал сопротивляться, ходил, доказывал. Все было напрасно. Они могли убить на эту безнадежную борьбу три, пять… десять лет и ничего бы не добились. Их было трое. Сперва уволили с завода одного, потом другого. Очередь была за Минаевым. Тогда он сделал вид, что смирился. Он утешал себя: это временно. Надо пойти в обход, сперва добиться независимости, авторитета, а потом громить этих бюрократов. Стиснув зубы, он продвигался к своей цели. Его назначили заместителем начальника цеха. Он приучал себя терпеть и молчать. Во имя того дня, когда он сможет сделать то, что надо. Он поклялся себе — все стерпеть. Он поддакивал тупым невеждам. Он голосовал «за», когда совесть его требовала голосовать «против». Он говорил слова, которым не верил. Он хвалил то, что надо было ругать. Когда становилось совсем тошно, он молчал. Молчание — самая удобная форма лжи. Оно умеет ладить с совестью, оно оставляет лукавое право хранить собственное мнение и, возможно, когда-то сказать его. Только не сейчас. Не в должности начальника цеха, и не начальником техотдела, и не главным инженером завода. И не на защите диссертации. Еще рано. Всякий раз было еще рано! А список его долгов рос. Жизнь рождала новые идеи, сталкивала с новыми препятствиями. Сколько таких Ольховских осталось позади!.. Неустанно, как муравей, он возводил здание своего положения, стараясь сделать его еще крепче. Зачем? Чего он добился? Чем выше он забирался, тем меньше он оставался самим собой. Тем труднее было ему рискнуть. Что мешало ему? Почему другие могли?.. Почему Петрищев мог — его несправедливо наказывали, понижали, снимали, а он всегда шел напролом, своим путем и побеждал? Нет, ему, Минаеву, ничего не мешало, просто так ему было легче. Он считал, что так легче. И когда Локтев, помахивая копией его ответа на запрос горкома, упрекнул его в двоедушии — «пишешь одно, а говоришь другое, что ж прикажешь докладывать секретарю?», — он понял, что Локтеву нечего стесняться, он имеет право быть откровенным, и сейчас надо уступить, так легче.
Все то, что предлагал Локтев, было подло, насквозь подло, но Минаева поразило другое — Локтев, по крайней мере, говорил то, что хотел. Локтев и Ольховский. Все остальные люди, связанные с этим делом, — все они думали одно, а говорили другое. Все, начиная с самого Минаева и кончая его референтом. Каждый из них по-своему лицемерил, лгал, и, вероятно, поэтому Локтеву можно было уже не лгать.
«Какой подлец! — с ненавистью думал он, глядя в пустые глаза Локтева. — Гнать его в шею из горкома! Не то что из горкома, из партии надо гнать таких. Злобное ничтожество. Ведь если его выгнать отсюда, его даже в продавцы не возьмут.» Чем сильнее он ненавидел и презирал Локтева, тем спокойнее он отговаривал его, а когда Локтев стал настаивать и угрожать, он попросил отложить вопрос на несколько дней. Трезво оценив всю сумму неприятностей, которую способен причинить ему Локтев, он надеялся в Москве заручиться поддержкой.
— Только ты не тяни, — сказал Локтев, прощаясь. — Сам писал, что Ольховский — склочник. Надо очищать институт, оздоровлять атмосферу.
«Ах какая сволочь!» — подумал Минаев и крепко пожал руку Локтева.
В Москве, на коллегии, институту досталось за невыполнение плана, и хотя в большинстве претензий виновато было само министерство, возражать не имело смысла, поскольку Минаева считали человеком новым, и все упреки списывались на прежнее руководство. Зато благодаря этой тактике Минаеву удалось выпросить валютное оборудование. В этом щекотливом вопросе просьбу института поддержал академик Строев, и после этого Минаеву было неудобно заговаривать о деле Ольховского. Суматоха московской командировки оттеснила это дело, ставшее здесь, в Москве, каким-то маленьким, и всплыло в памяти оно только в поезде, когда Минаев остался один в купе полупустого спального вагона. Виноват, наверное, был дождь. Он начался незаметно, покрывая окно косыми мелкими блестками. Крохотные капли зигзагами пробирались вниз, вбирали в себя накрапы, сливались такими же каплями и рывками все быстрее скользили вниз. Вспомнив обещание, данное Локтеву, Минаев вздохнул — вероятно, он там рвет и мечет, ничего не поделаешь, придется переводить Ольховского в Николаев. Временно, пока улягутся страсти.
На фоне густой черноты ночи двойное зеркальное стекло отразило грузную фигуру в розовенькой полосатой пижаме, отечное лицо с папиросой в углу твердо сжатого рта и еще одну, более смутную фигуру, всю в блестках дождя. Папиросный дым, касаясь холодного стекла, стлался сизыми льнущими завитками. Сквозь них из черной глубины окна, там, за вагоном, на Минаева смотрел тот, молодой, в намокшей кепке, в потертом пиджачке студенческих времен. Струйки воды стекали по его бледным щекам, по тонкой цыплячьей шее.
«Что же ты, папаша, опять откладываешь, сколько можно, неужели ты совсем не личность?» — «А между прочим, для всех весьма серьезная личность. Я считаюсь с реальными обстоятельствами, легко требовать, когда внизу.» — «Ты обещал поступать по-своему, когда назначат директором. Потом, когда укрепишься, а теперь…» — «Как будто директор — это бог. Я связан по рукам и ногам. Если бы я работал в министерстве, тогда я бы не зависел от Локтева, я мог бы…» — «Подумаешь Локтев, что тебе его угрозы, надо было пойти к секретарю горкома, в конце концов мог обратиться в ЦК, ты же был там.» — «Я честно делал и делаю что могу. И с Ольховским тоже все обойдется, верну его.» — «Не вернешь, да его уже и не будет, того Ольховского, будет Минаев, он превратится в Минаева, ты предаешь нас обоих… Как я мог поверить тебе?» — «Демагогия. Безответственная болтовня. Если я сейчас уступаю, так это только для того, чтобы иметь возможность поддержать не одного Ольховского. На моих плечах большой институт, там есть десятки таких, как Ольховский, которых я могу защитить, поэтому я не имею права…»
И был еще третий Минаев, невидимый, который с любопытством слушал, как директор убедительно, степенно отражал наскоки молодого, фактами доказывая неизбежность случившегося, и вроде успокоил, пообещав выручить Ольховского, вернуть его, лишь только сойдутся обстоятельства. Был он вполне искренен, не ловчил, но тот, невидимый, третий, знал — обстоятельства нужным образом никогда не сойдутся, игре этой не виделось конца. Он всегда будет стремиться стать самим собой завтра. Однако третий этот, невидимый Минаев, не ввязывался в их спор, никого не уличал, он ничего не произносил, он-то знал, что вряд ли уже директору удастся когда-нибудь поступать так, как он хочет, и что этот невидимый Минаев и есть тот настоящий, про которого никому не суждено узнать. И то ладно, что есть и не погасло значит, утешался он. Другие напрочь придавили это в себе. Бог знает, сколько в нем расщепилось разных Минаевых, и никак они не могли соединиться в одно.
Гибкие плывущие пряди дыма затуманивали мокрое лицо, там за стеклом оно уплывало в черноту ночи вместе с прошлым. Куда уходит прошлое? Единственное, что осталось, — это ощущение ожидания, вспоминалась не работа, а ожидания, которыми, оказывается, были залеплены все эти годы. Непрестанное ожидание — чего?.. Он усмехнулся и придавил папиросу.
Утром на вокзале Минаева встретил референт. Тщательно заматывая шарф, Минаев слушал институтские новости.