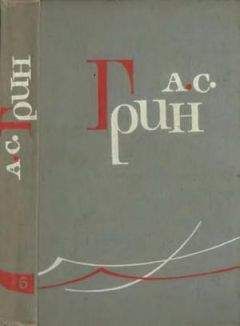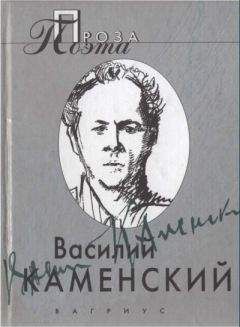Юлия Друнина - Проза (1966–1979)
Грузовики довезли нас до Можайска. Там, под холодным дождем рыли землю сотни людей — в большинстве женщины и подростки. Мне сказали, что здесь же работает и ополченская дивизия. Так впервые я узнала о существовании народного ополчения…
Уже через полчаса на руках моих образовались кровавые мозоли.
Периодически раздавался крик «Воздух!». Меня удивило, как вяло реагировали люди на появление фашистских бомбардировщиков. Правда, многие чувствовали себя здесь более уверенно, чем в московском бомбоубежище. Не было ощущения ловушки, страха быть погребенным заживо. Да и поразить в щели могло только прямое попадание, что, особенно под защитой зениток, случалось редко.
Два раза в день в громадных бидонах привозили остывшую похлебку. Спали в холодных сараях. Жалоб я не слыхала — да и на кого жаловаться? На немцев?..
Я старалась быть поближе к ополченцам, и они скоро стали принимать меня за свою. Тем более что я ходила в синем комбинезоне, прихваченном из сандружины, и повязкой с красным крестом на рукаве.
Поэтому, когда среди ночи ополченцев подняли по тревоге, я, никого не спрашивая, присоединилась к ним. Да меня никто и не замечал, не до того было. Немцы прорвали фронт под Вязьмой…
Одетые кто во что горазд, большей частью невооруженные («достанете оружие в бою!»), шли ополченцы по раздолбанной лесной дороге. До меня долго не доходило, что негромкое, мерное и, я бы даже сказала, мирное погромыхивание (словно лупили громадными молотами по гигантской наковальне) и есть канонада. А понял, спросила: «Скоро фронт?» Пожилой человек в очках угрюмо ответил: «Вот прорвутся танки и будет тебе фронт».
Это не укладывалось в голове, не доходило до сердца. Было не страшно — детская смелость неведения.
Конечно, все чувства притупились и от нечеловеческой усталости, ведь шли уже всю ночь. На десятиминутных привалах засыпали молниеносно, некоторые ухитрялись «кемарить» даже на ходу.
Рассвело. Было тихо и солнечно.
И вдруг гром среди ясного неба да черный столб посреди колонны, недалеко от меня. Второй! Третий! — уже за мной.
Дорога сразу опустела. Все, кто уцелел, скрылись в лесу. Остались неподвижные, застывшие в неестественных позах фигуры, да раздались крики раненых: «Сестра! Сестра!»
(Впоследствии я поняла, что это был минометный налет. В отличие от снарядов осколки мин всегда летят в одну сторону — поэтому можно случайно уцелеть, даже находясь рядом с разрывом.)
Я действовала автоматически — перевязала одного раненого, второго, третьего. Но тут услышала крики: «Танк! Танк!» — и увидела бегущих солдат.
…Я мчалась через лес, спотыкаясь и падая, расшибаясь и не чувствуя боли, повторяя, как молитву, про себя: «Господи! Господи! Если ты сделаешь чудо и оставишь меня живой, никогда, никогда я не сунусь больше в этот ад!» Потеряла санитарную сумку.
То приближались, то удалялись автоматные очереди и винтовочные выстрелы, над ухом нежно посвистывали невесть откуда взявшиеся пичуги. Только потом, приобретя уже кой-какой фронтовой опыт, я поняла, что это были шальные пули — они прилетали из недальнего боя.
А затем все стихло. Я почувствовала, что выдохлась, замедлила шаги. И тут услышала родное: «Стой! Кто идет?»
Кончилось одиночество — самое тягостное ощущение, которое может быть у человека на фронте, особенно если он новичок.
Я оказалась в расположении пехотного полка. Меня отвели на КП батальона. Комбат — светлые глаза на кирпичном лице, острые углы скул, твердая линия рта и неожиданная ямочка на подбородке — заставил меня подробно рассказать обо всех моих приключениях, особенно о танке. Потом землянка затряслась от дружного хохота. Оказалось, что я… приняла свой танк за фашистский! А солдаты бежали врассыпную потому, что знали — сейчас немцы начнут лупить по нему изо всех стволов.
«Ну вот что, доктор! — сказал, отсмеявшись, комбат. — Своих ты все равно потеряла, оставайся с нами. Будешь одна за весь санвзвод. А сейчас спи».
В первом же бою все сложилось совсем не так, как я себе представляла.
Когда полк поднялся в атаку, не было ни лавины наступающих, ни громового «ура!». Просто-напросто, несколько жиденьких цепочек, на ходу перезаряжая винтовки, молча бежали вперед, судорожно паля в направлении фашистов, но не видя их — я, во всяком случае, никого не видела.
А вокруг с грохотом вырастали черные кусты и столбы. Грохот от разрывов был глуше, чем грохот выстрелов. Поэтому поначалу я бросалась на землю, когда били свои минометы, и не обращала внимания на вражеские мины. То и дело приходилось останавливаться, чтобы перевязать раненого.
Потом цепочки почему-то залегли, и тогда вдруг выяснилось, что я попала в другой полк. По-видимому, после одной из перевязок спутала цепочку.
Я долго бродила между черными грохочущими кустами, разыскивая свой батальон. Очень хотелось пить.
Только нашла своих, цепочки снова поднялись и побежали вперед. Чтобы опять не потеряться, решила не отставать от комбата — высокий, с пистолетом в руке, он легко бежал впереди всех и был хорошим ориентиром.
Грохот усилился. Я потеряла счет раненым.
Как-то механически, словно заведенная, наскоро перевязывала очередного упавшего бойца, а потом искала глазами комбата — он продвигался вперед то короткими, то длинными перебежками — и догоняла его.
Так получилось, что комбат, его ординарец и я (я — только от страха снова потеряться) первыми влетели в деревню. В хате, куда мы ворвались с ходу, прижавшись к стене, поднял кверху дрожащие руки немецкий солдат, оказавшийся санитаром. Раненный в ногу, он не смог уйти. Его санитарная сумка почему-то была набита не бинтами, а… сахарным песком.
Со странным чувством ненависти и жалости смотрели я на этого беспомощного, немолодого человека, И вздрогнула, представив, что было бы со мной, попади я к ним в лапы…
Тяжелая рука комбата опустилась мне на плечо:
— Холодно, сестренка? Погрейся.
Он протянул мне фляжку. Не поняв, что там водка, я отхлебнула большой глоток и страшно закашлялась. Кругом добродушно рассмеялись.
Нужно было подумать об эвакуации раненых в тыл: проследить, чтобы санитары-носильщики не забыли ненароком кого-нибудь, постараться организовать повозки, и я выскочила из избы.
Это неверно, что к опасности не привыкают. Кто не привыкнет, тот должен сойти с ума…
Главное, что меня мучило, — страшная усталость. Только прикорнешь в окопчике, снова постылое: «Приготовиться к движению!».
Честно говоря, я даже не всегда понимала, когда наступаем, а когда отступаем. Всегда стреляем мы, всегда стреляют по нас, всегда кого-то перевязываешь, всегда куда-то бежишь, а вот в какую сторону — представляла поначалу не очень ясно…
В конце сентября дивизия оказалась в кольце. Почему это произошло, почему вообще началась катастрофа всеобщего отступления?.. У нас, окруженцев, не было времени задумываться — нужно было действовать.
Меня спасло то, что я не отходила от комбата. В самом безнадежном, казалось бы, положении он повел батальон на прорыв. Двадцать три человека вырвались из окружения и ушли в дремучие можайские леса. Про судьбу других не знаю…
Через три года, на госпитальной койке, я напишу длинное вялое стихотворение о том, как происходил этот прорыв. Начиналось оно так:
«В штыки!» — до немцев двадцать — тридцать метров.
Где небо, где земля — не разберешь.
«Ура!» — рванулось знаменем по ветру,
И командир наш первым вынул нож.
И еще пятьдесят строк. В окончательном варианте я оставила лишь четыре:
Я только раз видала рукопашный,
Раз — наяву и сотни раз — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Это я к тому, какой ценой приходится порой платить за четыре строчки…
Немцы шли дорогами, а нас вел по глухомани уроженец здешних мест — ординарец комбата. Бывший лесник, он знал тут каждую тропу, каждое дерево. Мне, умеющей заплутаться в трех соснах, способность нашего Сусанина выбирать нужное направление среди совершенно одинаковых деревьев казалась чем-то сверхъестественным.
Поначалу немцев мы не встречали. Звуки боя вспыхивали то справа, то слева, то сзади, то спереди. Но канонады — точного ориентира линии фронта — мы не слышали.
Лесник вел нас к своей избушке, где у него оставалась семья. Там мы должны были разузнать обстановку, прихватить продукты, спички и идти дальше, к своим.
Ребята прикончили последние сухари и жевали ягоды да какие-то корни. У меня почему-то не было чувства голода, только мучила все время жажда.
На закате третьего дня еле заметная тропка вывела нас из дремучего леса на поросший кустарником холм. Под ним и приютился домик бывшего лесника, а в двенадцати километрах от него — деревня.

![Михаил Колесов - Меньшиковский дворец[повесть, кубинский дневник и рассказы]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)