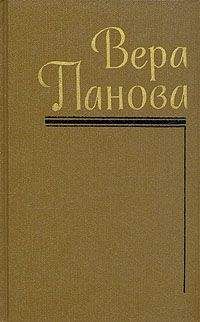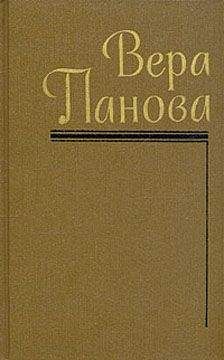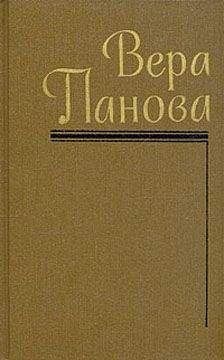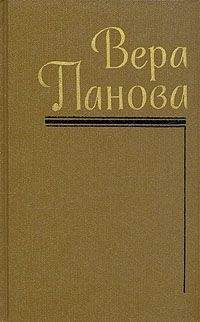Вера Панова - Рабочий поселок
Новый приятель Плещеева, Макухин, находился тут же. Он протянул руку, взял ботинок, сказал уважительно:
— Вещь.
— А вы положите! — раздраженно и неприязненно одернула Мария. Непременно вам трогать! — Она ревниво прикрыла лежащее на столе газетой. И вообще нечего вам тут делать.
— Маруся, — сказал Плещеев, — он ко мне зашел…
— Вот и идите отсюда оба! — забушевала Маруся. — Сил моих нет на твоих гостей смотреть! И так повернуться негде! Идешь домой как на пытку, все одно и то же, одно и то же…
Плещеев и Макухин вышли из хибарки, присели на лавочку, прилаженную у входа.
— Сердится Маруся, — сказал Плещеев.
Макухин скрутил папиросы ему и себе. Закурили.
— Чего это Ахрамович не едет? — сказал Плещеев.
— Приедет.
— А вдруг он тоже не достанет?
Они сидели плечом к плечу на лавочке и ждали Ахрамовича.
Мария спрятала обновы под сенник на нарах.
— Наденешь, когда в школу пойдешь, — сказала она Лене.
Она силилась и в этом жилье сохранить крохи уюта. На окошке висела занавеска, сшитая из бинтов, и какой-то стоял цветок в горшке.
Наступил день, когда дети пошли в школу.
Это не было первое сентября. Может быть, это было первое октября, или десятое, или пятнадцатое: в те годы не везде удавалось придерживаться узаконенного расписания. Но так или иначе первый этаж новой школы был отстроен, над входом висел транспарант «Добро пожаловать!», и туда потянулись дети всего поселка. Сотников пришел посмотреть, как они в первый раз входят в новую школу, он был доволен и морщился, чтобы скрыть улыбку.
— Мальчики налево, девочки направо, — говорила молоденькая учительница, стоя в вестибюле.
Среди мальчиков, идущих налево, был Леня Плещеев. Вместе со своими товарищами он переживал оживление и ожидание первого школьного дня. Одет был не в новое, как предполагалось, а в прежние свои одежки с заплатами и старые разбитые ботинки, но радость его не была этим отравлена, — в его возрасте мальчики вообще мало внимания обращают на одежду, а в ту пору, пережив военные лишения, и вовсе не обращали. Смятение в его душе вызывали отец и мать. Он не мог разобраться до конца, что же происходит. Ему было хорошо вдвоем с отцом и вдвоем с матерью, а с обоими вместе — плохо. Обоих было жалко, но отца особенно. Леня стряхивал с себя эту тяжесть, уходя от них. Поэтому в школе, среди сверстников, он был веселый и беззаботный, а дома — серьезный и много старше своих десяти лет.
Делая вид, что спит, слушал он ночью разговор матери с отцом.
— Что же мне делать! Что мне делать! — как в бреду вскидывалась Мария. — Ну за что нам такое с Ленечкой! За что ты ребенка обездолил! Да есть ли сердце у тебя, есть ли у тебя сердце, или все в тебе фашисты убили?!
А отец плакал, и слезы его были для Лени ужас и мучение.
— Маруся, — говорил отец, — это Макухин сделал, гад, я и не знал! Маруся, да разве бы я мог, если бы знал, откуда эта водка!
— Ничему не верю, ничему! — металась Мария. — Ты не отец, ты не человек после этого — и что мне делать, что делать?..
— Ну поверь! В последний раз поверь, слышишь? Маруся, как я к тебе рвался, как ждал — вот приеду…
— А я как ждала?
— Никого никогда, кроме тебя…
— Чтоб этого Макухина не было здесь больше!
— Да я его сам видеть не могу!
— И водки этой проклятой — чтоб и не пахло!
— Да я о ней думать не могу после этого!
— Ох, как я хочу тебе верить! — сказала Мария. — Как хочу, ты бы знал! Господи!
Она обессилела и лежала как мертвая, протянув руки вдоль тела.
— Вот ты господа поминаешь, — вспомнился ей Фросин наставительный голос, — а ведь ты его без всякого соображения поминаешь. Просто от привычки. Это грех. Ты к нему сознательно обратись, лично, чтоб укрепил тебя.
— Отвяжись от меня! — в мыслях отвечала ей Мария нетерпеливо.
— Обратись, Мария, — убеждала Фрося. — Легче тебе будет свой крест нести.
— Не хочу крест нести. Хочу жить разумно, ясно, — отвечала Мария. Ну хорошо, пусть уж без счастья. Но покоя, покоя хоть капельку — можно?..
В конце месяца Леня Плещеев забежал после уроков в карточное бюро. Перед окошечком, где выдавали продуктовые карточки, стояла очередь.
— Кто последний? — спросил Леня и чинно занял место в хвосте.
— А, Леня Плещеев, — ласково сказала женщина в окошечке, когда очередь дошла до него. Ему пришлось подняться на цыпочки, чтобы расписаться в ведомости.
— Получай: мамины… папины… твои.
Новенькие карточки, все в цифрах и надписях, ложились перед Леней. На одних талонах было напечатано: «Хлеб». На других: «Сахар», «Жиры», «Мясо». Леня бережно сложил карточки и спрятал за пазуху.
Плещеев сидел в хибарке, чистил картошку. Он был трезвый, благодушный, и дело у него получалось ловко. Вбежал Леня.
— А, сынок, здоров.
— Пап, я карточки получил. У нас сбор отряда, ты отдай маме. Вот. Только спрячь хорошенько. Постой, я сам спрячу. — Леня положил карточки в карман отцовской гимнастерки и заколол булавкой. — Вот так не потеряешь.
— Ты поешь, — сказал Плещеев. — Там картошка в чугунке.
— Потом. Опаздываю… Тебе ничего не надо?
— Ничего. Беги, сынок.
Леня схватил из чугунка на плите картофелину и побежал, откусывая на ходу.
Под вечер того же дня Плещеев, Макухин и Ахрамович выходили из столовой, разговаривая. Они были сильно пьяны и склонны к откровенности.
— А я сам себе главный друг, — говорил Макухин, — потому что я на себя самого положиться могу полностью, а на других, даже на вас, — не полностью.
— Почему же на нас не полностью? — обиженно спрашивал Ахрамович.
— А я на себя не могу положиться, — сказал Плещеев. — Прежде мог, теперь не могу. Эх, Гришку бы мне, Гришку!
— Кто такой Гришка? — еще больше обиделся Ахрамович.
— Шалагин. Хороший человек — Гришка Шалагин.
— Чем же он такой хороший? — спросил Макухин.
— Всем хороший, — сказал Плещеев. — Ходит прямо, говорит весело. Дружили мы когда-то: я, он, покойный Прохоров Алеша… В чешуе как жар горя, тридцать три богатыря… Вам не понять!
— «Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет!» — запел вдруг во все горло Макухин, и Плещеев с Ахрамовичем подтянули.
Они проходили мимо школы. Распахнулась дверь, послышалась барабанная дробь, на улицу высыпали пионеры. Среди них был Леня. Он выбежал радостный и остановился, увидев отца, которого Ахрамович вел под руку.
— Всё гуляют, — вздохнув, как взрослый, сказал Павка Капустин.
А Леня испугался. Его испугала страшная догадка. Хотел броситься за отцом, окликнуть — но стыдно было перед ребятами. Он медленно пошел домой.
Мать уже пришла. Она рылась в постели на нарах. Подушки и все тряпье были разбросаны, и руки ее двигались судорожно-торопливо, как тогда, когда она искала на пепелище ящик с инструментами.
— Ты где до ночи ходишь? — напустилась она на Леню. И, не дожидаясь ответа: — Ты где дел карточки? — (Он молчал.) — Не получил?
— Получил.
— Так давай сюда. У тебя они?
Он стоял, не зная, что сказать.
— Леня! Где карточки?
— Я их положил куда-то, — сказал он.
— Куда?
— Я не помню.
Он отвернулся, чтоб не видеть ее глаз.
— Потерял?.. — спросила она шепотом. И села, — не держали ноги. Пот выступил каплями на лице.
— Без хлеба, — шептала она, — без ничего… целый месяц… — И вдруг громко: — Ничего ты не потерял, Ленечка. Неправда. Это опять злодей этот…
Пьяные голоса донеслись с улицы. Мария замолчала.
— А ты ее поставь на место, — говорил Макухин. — Чего она тебе, на самом деле, повернуться не дает!
— Да ну, боялся я ее! — отвечал Плещеев. — Пусть только попробует скандалить!
— Небось, когда ты ее в шляпах водил, она шелковая была, — подначивал Макухин.
— Пусть только!.. — хорохорился Плещеев.
— Ты все-таки не очень, — жалостно сказал Ахрамович. — Я считаю женщин мы жалеть должны и оберегать.
— Во-первых, — сказал Макухин, — там и твои были карточки. Государство тебе их выдало.
— Вот именно! — повысил голос Плещеев. — Мои кровные, начнем с этого…
Он толкнул дверь и ввалился в хибарку. Макухин и Ахрамович заглянули через его плечо и исчезли.
— Две мои были, верно? — спросил Плещеев. — Как хочу, так и распоряжаюсь.
— Дверь закрой, — безжизненно сказала Мария. — Выстудишь избу.
Леня закрыл дверь.
— Значит, так, — продолжал Плещеев, — человек все отдал — это хорошо, да, хорошо… А взять чего-нибудь для себя — моментально глаза колоть… Коли, на, коли, сколько хочешь, все равно ничего не видят. Видели когда-то.
— Ложись, — сказала Мария.
— Захочу — лягу, — сказал Плещеев, — а не захочу — не лягу. И ничего такого страшного нет. Скажешь там, что потеряла, — не могла потерять, что ли? Придумают, помогут… У нас не капиталистические джунгли, где человек человеку волк. У нас все за одного…