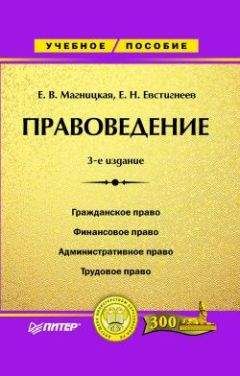Юлиан Семенов - Семнадцать мгновений весны (сборник)
«Видимо, нас разбросал ветер, – думал Вихрь. – Стрельбу я должен был услыхать, потому что ветер был на меня, а они прыгали первыми, следовательно, они приземлились в том направлении, откуда налетал ветер. Вихрь, – усмехнулся он, – налетал вихрь… Глупая кличка, просто на манер Айвенго, право слово… Надо было взять кличку Ветер – хоть без претензий».
Он остановился – толчком – и замер. Впереди асфальт был перегорожен двумя рядами колючей проволоки, подходившей вплотную к полосатому пограничному шлагбауму. Вдоль шлагбаума ходил немецкий часовой. На опушке леса темнела сторожевая будка. Из трубы валил синий дым – клубами, ластясь к земле: видимо, печку только-только растопили.
Несколько мгновений Вихрь стоял, чувствуя, как все тело его сводит тяжелое, постепенно пробуждающееся напряжение. Потом он стал медленно приседать. Он знал лес. Еще мальчишкой он понял, что нет ничего более заметного в лесу, как резкое движение. Зверь бежит через чащобу, и его видно, но вот он замер – и исчез, до тех пор исчез, пока снова не выдаст себя движением.
Вихрь лег на землю, полежал так с минуту, а потом стал потихоньку отползать в лес. Он забрался в чащобу, повернулся на спину, закурил и долго смотрел на причудливое переплетение черных веток над головой.
«Видимо, я вышел к границе рейха с генерал-губернаторством, с Польшей. Иначе – откуда граница? По-видимому, мы выбросились много западнее Кракова, значит, патрулей здесь до черта. Хреново!»
Вихрь достал карту, расстелил ее на траве и, подперев голову кулаком с зажатой в нем папиросой, стал водить ногтем мизинца по шоссейным дорогам, ведшим из Кракова: одна на восток, другая в Закопане, третья в Силезию, четвертая на Варшаву.
«Точно. Это дорога на Силезию. В километре отсюда – территория Третьего рейха, мать его так… Надо назад. Километров семьдесят, не меньше».
Вихрь достал из кармана плитку шоколада и лениво сжевал ее. Выпил из фляги немного студеной воды и стал отползать еще дальше в чащобу, то и дело замирая и вслушиваясь в утреннюю ломкую, влажную тишину.
(Вихрь верно определил, что перед ним граница. Он также совершенно правильно предположил, что здесь больше, чем в каком-либо другом месте, патрулей. Но Вихрь не мог знать, что вчера их самолет был засечен пеленгаторными установками. Более того, было точно запеленговано даже то место, где «дуглас» лег на обратный курс. Поэтому шеф краковского гестапо дал указание начальнику отдела III-A прочесать леса в районе тех квадратов, где, предположительно, был сброшен груз или парашютисты красных.)
Вихрь шел по лесной дороге. Она то поднималась на взгорья, то уходила вниз, в темные и холодные лощины. В лесу было гулко и тихо, дорога была неезженая, но тем не менее отменно хорошая, тугая, не разбитая дождями. Вихрь прикинул, что если он пойдет таким шагом через лес, то завтра к вечеру будет совсем неподалеку от Рыбны и Злобнува. Он решил не заходить в села, хотя по-польски говорил довольно сносно.
«Не стоит, – решил он, – а то еще наслежу. Здешнюю обстановку я толком не знаю. Лучше проплутать лишние десять километров. Так или иначе, компас выручит».
Выходя на поляны, он, так же как и на границе, замирал, медленно опускался на землю и только потом обходил поляну. Один раз он долго стоял на опушке молодого березняка и слушал, как глухо гудели пчелы. Он даже ощутил во рту медленный, откуда-то изнутри, липовый вкус первого, жидкого светлого меда.
К вечеру он почувствовал тяжелую усталость. Он устал не оттого, что прошел более сорока километров. Он устал оттого, что шел через лес – настороженный, молчаливый; каждый ствол – враг, каждая поляна – облава, каждая река – колючая проволока.
«Сволочь, – устало думал Вихрь об этом тихом лесе, – растет себе – и плевал семь раз на войну. Даже макушек, срезанных снарядами, нет. И выгоревших секторов тоже. Горелый лес жалко. Попал в людскую перепалку и страдает ни за что ни про что. А этот – благополучный, тихий, пчелиный лес, мне его совсем не жаль».
Когда стало темно, Вихрь сошел с лесной дороги и двинулся по мокрому мягкому мху куда-то вниз, туда, где шумела река. Он решил там заночевать. Чем ниже он спускался, тем труднее было идти: начиналось болото. Вихрь решил посветить вокруг фонариком, но потом подумал, что делать этого не стоит, свет в лесу издалека виден, всякое может случиться.
Он начал подниматься обратно – вверх к дороге, упал, промочил колени, рассердился, потому что завтра рассчитывал войти в Рыбны, а входить в село в измазанных брюках неразумно: сразу видно, что из лесу. Достал из немецкого, свиной кожи портфеля фонарик и быстро осветил место, где упал. Мох под лучом фонаря стал неестественно зеленым, каким-то изумрудным даже, светился изнутри, как фосфор ночью в кабине пилота.
Вихрь вышел на дорогу, долго чистил березовой листвой свои щегольские тупорылые полуботинки, изношенные настолько, чтобы не казаться новыми: гестапо здорово осматривает вещи при задержании, они в этом доки, а новые вещи всегда подозрительны. Сверился по карте, где он сейчас должен находиться, и полез вверх – по левую сторону от дороги. Ночной лес был ему приятен – совсем иной, особой, столь нужной сейчас тишиной. Леса незнакомого, и особенно ночного, боятся все: и те, которые ищут в нем, и те, которые в нем скрываются. Но те, которые ищут, боятся его больше.
Не разводя костра, он устроился под большой теплой елкой; вытянулся с хрустом и не заметил, как уснул – тяжелым сном с липкими, тягучими сновидениями.
Проснулся он словно от удара: ему послышалось, что рядом кто-то тяжело дышит. Он даже отчетливо понял, что дышит человек с насморком – в носу при каждом вдохе хлюпало.
Коля, он же Гришанчиков
Он, пожалуй, дольше остальных ходил вокруг места приземления – сначала маленькими кругами, а потом все бо́льшими и бо́льшими, – но безрезультатно. Никаких следов товарищей он не обнаружил.
Под утро Коля вышел на проселок. Возле развилки стояла маленькая часовенка. На чисто беленной стене был прибит большой коричневый крест. На кресте был распят Христос. Художник тщательно нарисовал на белом теле Христа капельки крови в тех местах, где его руки и ноги были пробиты гвоздями. Над входом в крохотную часовенку висела иконка Пресвятой Девы Марии: детское лицо, громадные глаза, тонкие пальцы прижаты к груди, словно при молитве.
На полочке под крестом стоял стакан. В стакане догорала свеча. Пламя ее в рассветных сумерках было зыбким и тревожным.
«Заграница! – вдруг подумал Коля. – Я – за границей! Как мы смотрели на Ваську, когда он приехал с родителями из-за границы! Он приехал из Польши в тридцать восьмом. Смешно: он сочинял небылицы, а мы ему верили. Он говорил, что купался в гуттаперчевом море. Можно плавать, даже если не умеешь. „Вода, – говорил Васька, – держит. Специальная, американская вода“. Мы его даже не били, потому что он был за границей».
Коля вздрогнул, услыхав за спиной кашель. Обернулся. В дверях стояла старуха. Она прикрывала рукой большую, только что зажженную свечу.
– Доброе утро, пани, – сказал Коля.
– Доброе утро, пан, доброе утро.
Старуха выбросила огарок из стаканчика, что стоял под распятием, и укрепила в нем новую свечу, покапав стеарином на донышко. Ветер лизнул пламя, оно взметнулось, хлопнуло раза два и исчезло. Коля достал зажигалку, высек огонь, зажег фитиль.
– Благодарю пана.
– Не стоит благодарности.
– Пан не поляк?
– Я русский.
– Это чувствуется по вашему выговору. Вы что, из лагеря в Медовых Пришлицах?
– Нет. А какой там лагерь?
– Там живут те русские, которые ушли с немцами. Туда каждый день приходит много людей.
– А мне сказали, что этот лагерь под Рыбны…
– Пану сказали неверно.
– Вы не покажете, как туда идти?
– Покажу, отчего же не показать, – ответила старуха и опустилась на колени перед распятием. Она молилась тихо, произнося неслышные быстрые слова одними губами. Порой она замолкала, упиралась руками в пол и склонялась в низком поклоне.
Коля смотрел на старуху и вспоминал бабушку, мамину тетю. Она была верующая, и Коля очень стыдился этого. Однажды у бабушки упала ее старенькая красная сумочка, в которой она носила деньги, когда ходила за покупками. Из сумки выпало медное квадратное распятие. Коля засмеялся, схватил с пола распятие и стал дразнить бабушку, а после зашвырнул распятие в угол, под шкаф. Бабушка заплакала, а двоюродный брат мамы дядя Семен, войдя в комнату в гимнастерке без портупеи – он только что принимал ванну, – ударил Колю по шее, не больно, но очень обидно. Лицо его потемнело, он сказал:
– Это свинство. Не смей издеваться над человеком, понял?
– Она верующая! – Мальчик заплакал. Тогда ему было двенадцать лет, и он был не безликим Колей или Андреем Гришанчиковым. Он был Сашенькой Исаевым, баловнем дома, и его никто ни разу не ударял – ни мать, ни дядя Семен, пока он жил у них, ни бабушка. – Она верующая! – кричал он, заливаясь слезами. – Поповка! А я пионер! А она верующая!