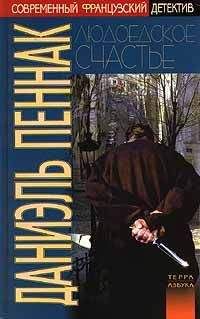Владимир Кораблинов - Дом веселого чародея
Сопровождаемый Прекрасной Еленой старичок-карлик принес вино и бокалы.
– Хоть бы вы, божественная, его отговорили, – целуя Еленины ручки, сказал Семен Михайлович.
– О! Ми решиль и – баста! – прищелкивая пальцами, засмеялась Бель Элен.
Ей было все равно, куда ни ехать, лишь бы вырваться из опостылевшего Воронежа.
Словно и не было черных ночей осени, длинной, снежной зимы.
В окнах вагона мелькала весенняя родная Россия, ее поля, дубравы, перелески. Гремели железные мосты. В тихих реках отражались дивной красоты облака, сияли трепетные крылья золотых и багряных закатов.
Пестрота дороги, шум городов, ослепительный свет манежа. Неизменный успех, грохот аплодисментов, крики «браво». Развеселая компания артистов и поклонников. Ужины в дорогих ресторанах, шампанское в серебряных ведерках. Букеты роз и тюльпанов. Лавровые венки. Новые восторженные записи на огромных страницах путевого альбома.
Пряный, упоительный аромат славы и всеобщего поклонения.
Но, несмотря ни на что, ко всем этим привычным и желанным удовольствиям примешивалось странное, волнующее чувство или, верней сказать, предчувствие чего-то необыкновенного, нового – и радостного и страшного в своей новизне.
Оно, это предчувствие, прямо-таки в воздухе висело. Оно было во всем: в белых плешинах газетных столбцов, вымаранных цензурой, в туманных слухах о мужицких бунтах и рабочих забастовках, в обывательском шепоте, в бестолковых разглагольствованиях трактирных, лавочных, театральных…
Даже у всенощной, в церкви.
Даже в артистических уборных цирковых балаганов.
Порт-Артур. Мукден. Цусима… Эти чужие, не по-русски звучащие слова сделались символами военного разгрома российской армии, бездарности ее полководцев. И хотя японцев все еще презрительно именовали м а к а к а м и и еще очень памятны были оголтело-патриотические речи «шапками закидаем!», из города в город, по всей стране, летела, минуя всякую цензуру, издевательская песенка:
Берегись, макаки! —
Хвастали вояки.
А дошло до драки —
Дали нам макаки!
Воронежских впечатлений накопилось достаточно для того, чтобы представить себе, что происходит в стране. Быстрое воображение довольно точно нарисовало общую картину современной русской жизни. И ежели из богатейшего лексикона русского языка требовалось выбрать слово, чтобы наименовать происходящее, то слово это, без сомнения, было: революция.
Переезжая из города в город, он убеждался в правильности своего художнического воображения общей картины, но – боже мой – сколько в ней оказывалось невоображенных частностей! Случайные происшествия, сценки, подслушанные разговоры…
По улицам Калуги, например, раненых солдат везли (бинты, пропитанные ржавчиной засохшей крови, тошнящий запах йодоформа, стоны, костыли, красные крестики на косынках сестер), и толпы горожан хоть и безмолвно стояли у обочин тротуаров, но как красноречиво чувствовалось их молчаливое осуждение! Со злобой и презрением брошенное: «Довоевались!» – ох, как о многом, не сказанном, говорило!
Или вот в Туле было: двое конных стражников человека вели по булыжной мостовой. На его нездоровом, сером, словно запыленном, лице от виска – вниз, по щеке, – запекшаяся кровь. Была жара, мухи вились вокруг раны, досаждали, а человек хоть бы рукой пошевелил, чтоб отмахнуться. «Что это он? – удивился Дуров. – Как неживой…» И не вдруг рассмотрел, что руки-то у бедняги за спину заведены, закованы.
Частности общей картины…
В каком-то городе, чуть ли не в той же Туле, на вокзале – ни одного носильщика. Нагруженный чемоданами, баулами, шляпными коробками, Анатолий Леонидович раздраженно накричал на дежурного по станции:
– Безобразие, черт знает что! Где носильщики?
– Бастуют-с, – вежливо козырнул дежурный. – Второй день…
По телеграфу заказывал в местной газете рекламу: едет Дуров – и прочее. Прямо с вокзала, явившись в гостиницу, спросил у коридорного газету. Тот замялся:
– Не получили-с…
Оказалось, не только реклама, но и сама газета не вышла, бастовали типографские рабочие.
Дуров чертыхнулся и, не теряя времени, – к хозяину типографии. Тот руками развел:
– Ничего не могу-с.
– Но, помилуйте, мне афиши нужны! Черт с ней, с газетной рекламой… но афиши! Афиши!
– А вы с рабочими поговорите, – посоветовал хозяин. — По мне – что, по мне – с великим удовольствием, а вот как они…
С рабочими договорились враз.
– Анатолию Дурову? Сделаем, конечно…
– Этакому-то артисту!
Но дошло дело до печати – ан бумаги нет, склад заперт, кладовщик загулял, а в цехе – одна лишь красная.
– Великолепно, – согласился Дуров, – давайте на красной.
Крестный (будто бы со слов самого Анатолия Леонидовича), так рассказывал:
– Город, можешь себе представить, ну просто словно алыми маками расцвел. Тумбы, заборы, стены – все красным-красно. Расклейщикам Анатолий Леонидыч от себя платил щедро, вот они и постарались! На губернаторской резиденции, на городской управе, на виднейших присутственных местах… На монастырской ограде – и то налепили: «Дуров, Дуров… Война животных, хор свиней, поющая собака!» Каково?
Вот уж не могу тебе сказать, умышленно это было сделано или нет. Сам Анатолий Леонидыч категорически отрицал: «Бумаги, мол, другой не было». Но я, между прочим, сомневаюсь: этакая скандальозность в его духе. А время-то, прими во внимание, – девятьсот пятый…
Нуте-с, результаты подобной буффоны сказаться не замедлили. Рано утром, Елена Робертовна еще в постели нежилась, – стук в дверь. Решительный. Бесцеремонный. Он сразу, конечно, догадался: полиция. Кое-как, наспех загородил Прекрасную Елену ширмами, открывает. Ну, так и есть: пристав. Этакая богопротивная образина, Держиморда в квадрате, если можно так выразиться.
– Господин Дуров?
– К вашим услугам. В чем дело?
– А в том, что извольте свои афишки снять немедля.
– Здравствуйте, пожалуйста, чем они вашему благородию не понравились?
– Извольте снять!
– Но почему же?
– Цвет нехорош.
– Ах, цве-е-ет-с нехорош! Ну, это, почтеннейший, дело вкуса. Мне, например, нравится.
– Так не снимете?
– И не подумаю.
– В таком случае… – грозно было начал полицейский, но тут Елена Робертовна за ширмами шум подняла:
– Нахал! Невежа! Пошел вон! В комната женщин не одет, голи… а он врывалься, как это… разбойничка, мёрдер! Ми жальвался будет!
И, можешь себе представить, на бедного пристава полетели из-за ширмы чулки, и подвязки, и туфли, и прочие предметы дамского туалета… Оторопевший и разозленный, он ретировался, конечно.
Однако и часа не прошло – посыльный унтер: господин исправник просит пожаловать незамедлительно. Что ж поделаешь, надо идти.
В приемной – народ, толчея. Анатолий Леонидыч – к дежурному чиновнику: прошу доложить.
– Сию минуточку…
Побежал, вернулся, опять куда-то исчез. Так десять, двадцать минут проходит.
– Ну, что же, долго мне тут ждать?
– Докладывал, говорит: повремените-с…
Наконец вызывает.
– Тут у вас, – цедит сквозь зубы, – на афишках помечено: хор свиней, не так ли?
– Ваша святая правда, – отвечает Дуров.
– Так пожалуйте тексты-с.
– Помилуйте, какие тексты! У меня же свиньи поют…
– Так вот-с, тексты.
– Но я свинячьего языка не понимаю и по-свински не разговариваю!
– Те-те-те! Знаем мы, что они у вас поют, – нахмурился исправник. – Наслышаны-с.
И ведь запретил номер, скотина! Да еще и придрался, что в афише сказано: «свиньи дрессированы н а с в о б о д е».
– Зачеркните, – приказал, – последнее словечко… Сие в настоящее время двусмысленно.
Вечером цирк полон, разумеется. Красная бумага на афишах, знаешь ли, тоже немалую роль сыграла. Слухи пошли по городу: еще, мол, не начинал, а уже конфликты с полицией… Реклама в некотором смысле, это Анатолий Леонидыч тоже отлично понимал.
Ну-с, показывает то, показывает другое. Успех, как всегда, грандиознейший. Но вот на верхотуре – шум, крики, требуют свиную капеллу. Анатолий Леонидыч выводит своих «артистов». Молчат чушки, ни звука. «Песни давай! – кричит публика. – Почему не поют?»
– Уважаемые господа! – говорит Дуров. – Мы бы с удовольствием спели, да господин исправник номер запретил… по цензурным соображениям.
– Как?! – перебивает его шпрехшталмейстер. – И для свиней введена цензура?
– Увы! – печально отвечает Анатолий Леонидыч. —
Тут, отлично знаю я,
Нам ничто уж не поможет:
Нынче даже и свинья
Без цензуры жить не может!
Это выглядело экспромтом, но… да не все ли равно, в конце концов, – экспромт, не экспромт! Номер-то, несмотря ни на что, получился, и баста.
Бурлила Россия.
Он любил посещать людные места – вокзалы, дешевые трактиры, базарные чайные, где с интересом прислушивался к бесконечным россказням о том, что творилось вокруг.