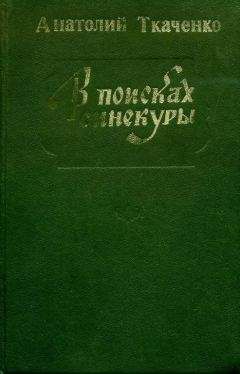Борис Пильняк - Том 3. Повести. Рассказы. Корни японского солнца
— И ты пойми только, знасить, без денег… Знасить, такие склады, продкомы то-есть…
По морям и океанам, под Южным Крестом и Полярной Звездой, в тропиках и у вечных льдов — идут корабли. По морям и океанам — идут бури, ночи, дни, месяцы, годы. Море же — это две чаши: одна над другой чаша неба и чаша воды, да с неделю от берега и за неделю до него — чайки и точкою в небе кондор. И на кубрике, у кормы на кораблях, живут возчики кораблей матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгуэле с каучуком, в Порт-Петербурге с лесом и пенькой — грузятся корабли, чтоб итти, нести грузы — на Острова Зеленого мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес, Суэцами, Панамскими каналами, Индийскими, Великими, Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет, неделями и месяцами в море, — и матросы говорят о себе и друг о друге:
— Я (или он) пошел на берег, — он на берегу, и кажется, что борт корабельный стал им их землей, точно борт корабельный может быть землей; но матросы же знают, что в бурю, когда ветер, посинев, рвет ванты и людей, когда волны идут через фальш-борты и бьют до спардэка, — когда корабль мечется в волнах овощинкою в кипятке, — тогда надо смотреть на горизонт, ибо только он неподвижен и тверд, как земля, и плохо тому, у кого закачается в глазах горизонт, единственное некачающееся, — тогда его стошнит в морской болезни нехорошей, мутной, собачьей тошнотой. И матросы не любят говорить о море, о морских своих путях и делах, — потому ли только, что это их будни? — «Speranza» — это значит: — Надежда, — и символ надежды: — якорь, тот, которым матросы в морских безбрежностях цепляются за единственную землю — за донья морей. — Матросы всегда дальнозорки.
Жених во полуночи
[текст отсутствует]
Повесть о ключах и глине
«Здесь из-под земли выбивался студеный ключ.»
Вс. Иванов…Это арабская песня:
Мастер, осторожней касайся глины,
когда ты лепишь из нее сосуд, —
быть может, эта глина есть прах возлюбленной, любимой когда-то:
так осторожней касайся глины своими теперешними руками.
В Палестине, в Сирии, на берегу Средиземного моря совершенно особенно, как нигде в мире, гребут арабы. Их восемь человек, они в чалмах, они в широчайших шароварах, раздувающихся на ветру, они босоноги, и только подошвы их охраняются от жара земли библейскими сандалиями, привязанными к ноге ремнями. Их ноги загорели так же, как лица и руки. Арабы красивы, сильны, гибки, похожи на птиц. На корме каика, там, где на коврах сидят европейцы, раскинут над головами европейцев белый шатер, — но арабы под солнцем. У каждого араба по одному веслу; каик громоздок, широкобортен, похожий на шаланду; — и восемь арабов, все сразу, закидывая весла в воду, взлетают на одной ноге над банкой {скамейкой}; другую ногу они сгибают в колене, шаровары раздуваются ветром, шаланду качают зеленые волны, вместе с шаландой и ветром качаются арабы; тяжестью своих тел арабы выгребают весла, — той ногой, которая была в воздухе, они опираются о борт шаланды, отталкиваются ею и вновь взлетают на воздух, над банкой, над волнами. И, взлетая в воздух, красавцы, похожие на птиц, все сразу они — нет, не поют, а всклекотывают на своем гортанном языке совсем так же, как птицы, разбуженные в ночи:
Мы мужчины, молодцы! Мы мужчины, молодцы!
Боже мой, путь еще не кончен: — путь еще далек —
это всклекотывают они к тому, чтобы ободрить свой труд в зное и море, в бирюзе волн, — это всклекотывают они потому, что по истине «путь еще не кончен» — потому — что они же поют — в пустыне, в ночи, под пальмами и звездами, отдыхая около своих белых мазанок, или около верблюда, или около оаза — поют о мастере, который должен быть осторожен с глиной, ибо и глина есть память любви и лет.
IВ порт-Одесса у Потемкинского мола стоял пароход под флагом Союза социалистических республик, под полными парами, готовый отшвартоваться, чтобы идти в море. Утром боцман с подвахтой умывали судно, — из шланг на палубы выливались сотни ведер воды, судно чистилось и скреблось, — и, умытое, готово было блестеть, если бы было солнце. Но солнца не было, были последние дни октября, моросил дождь, и вода за бортом болталась серенькая, как серенький в море ожидался туман. В полдень стали грузить переселенцев. Лебедка в трюм сваливала чемоданы, корзины, тюки, матрацы, комоды, корыта.
Люди растекались по палубам со всем тем человеческим добром и отрепьем, которое можно повезти с собой, с перинами, с постелями, с лукошками, — кто-то нес граммофон, кто-то поставил под вельбот корзину с двумя гусями. Это были палубные пассажиры, их было пятьсот человек, — это были евреи, едущие в Палестину, едущие на родину, где не были две тысячи лет. На палубе, в проходах, под шлюпками, около труб (пароход был двутрубным, громадина), в трюме для третьего класса наваливались горы вещей так, как валятся вещи, вытащенные в пожар из горящего здания. На вещах торопливо раскладывались постели, и там сидели женщины и дети. Старики выискивали пустые места, чтобы поспешно раскинуть коврик, взять в руки священную книгу и, полуприкрыв глаза, закинув голову, прочитать древними словами, — и их сгоняли с места на место, в новые и новые места сваливая подушки, детей, ночные горшки, самовары. На палубах громко говорили, должно быть, ссорясь, мешая русский язык с древнееврейским. На палубах остро запахло тем запахом, которым пахнут гетто и пароходные трюмы: пароходные трюмы и гетто пахнут одинаково, быть может, потому, что гетто всегда были лишь перепутьем для этого идущего народа.
Вскоре на палубах, которые так тщательно были вымыты утром, валялись огрызки арбузов, куриные кости, рваная бумага, — откровенная грязь ползла из корзинок и лукошек. К сумеркам все палубы были забиты людьми и вещами, надо было проходить по вещам и людям. От палуб в серую муть сумерек несся чуждый русскому уху молитвенный гул. Эта тесная груда людей была черна — не только потому, что люди были черноволосы и смуглолицы, не потому, что в сумерках одежда, вещи и теснота казались черными, но и потому, что в словах, в движениях, в выкриках чуялась черная, испепеленная кровь людей, мистически настроенных.
Сумерки сменились черною ночью. На море загорелись огни. Замигал, умирая и возгорая вновь, маяк. Судно притихло во мраке. Уже отсвистел второй гудок. Капитан весь день сидел у себя в каюте, пил кофе и отдавал приказания. Пришел старший помощник, сказал, что все работы окончены, — что молодежь-сионисты из Тарбута собрались ва баке, митингуют, приготовили свой синий сионистский флаг. Капитан отпил последний глоток кофе, — сказал, чтобы давали третий гудок, и стал натягивать на себя черное кожаное пальто с капюшоном. — Пароход загудел черным страшным воем. Капитан вышел на мостик под этот вой. И как только затих вой гудка, пароход завыл иным воем — воем слез, прощания, проклятия, воздеваемых к небесам рук, закинутых к небесам острокадычных шей и голов. За этим воем незаметно было, как во мраке у кормы копошился катерок, тужился, посапывал, оттаскивал громаду от мола. Вой не смолкал, — и тогда в вое возник ритм песнопения; эта песнь была гортанна, однотонна, обречена, вся облитая кровью и горечью, — это был сионистский гимн, тот гимн, в котором пелось о Сионе, о предвечной избранности этого рассеянного, благословенного и проклятого народа, ныне идущего в Сион. В темноте не все заметили, что на баке за фальшбортом был поднят сионистский флаг. И тогда этот вой и эту песнь покрыл рев капитановой глотки:
— Мооолчать, на баке! — проревел капитан. — Штурман Погодин, посадите зачинщиков в канатный ящик! — Мооолчать!!
На баке на несколько минут произошла сумятица. Кто-то кого-то толкнул. Кто-то кого-то выругал. И пошел гвалт.
— Вы нахал, мерзавец, скотина!
— Моол-чать! В канатный ящик!!
— Гражданин капитан, — меня ударили по шее!
Опять заревел из мрака с капитанского мостика капитан:
— Молчать! Штурман Погодин, виновных и зачинщиков ко мне на мостик.
— Есть! — ответил штурман, и подвахта стала кого-то в толпе отбирать. Толпа стихла и заежилась.
— Слушать команду! — крикнул покойнее капитан. — Сионисты! — когда мы выйдем в море, разрешаю вам петь, от пяти до девяти вечера и от девяти до двенадцати дня… Мооолчать! Зачинщиков в канатный ящик! В море пойте, сколько в душу влезет!
Катерок перестал уже копошиться под кормой. Пароход стал форштевнем к морю. Огни на набережных и наверху в городе слились в одну плоскость, маяк проплыл сбоку. И из моря, с просторов, подул, обвеял широким крылом просторов и бурь морской ветер. Дождь перестал, но звезд не было, и судно уходило.
Те евреи, что остались у развалин Иерусалима, в пустыне, были добиты и доразогнаны в средние века, в начале второй тысячи христианского летосчисления, — крестоносцами, в дни, когда Готфрид Бульонский врывался в Иерусалим, чтобы сделать там Иерусалимское королевство, — и христиане, конечно, не пожалели иудеев, новые и новые толпы их рассеивая по земле. И в памяти человечества остался этот народ, всюду гонимый, — остался в памяти человечества менялой, банкиром и ремесленником, — и еще остался тем народом, которым пользовались все жулики человеческой истории для жульнических своих целей, ибо в тринадцатом веке короли не громили евреев за взятку, точно так же, как в Нью-Амстердаме (как назывался Нью-Йорк прежде, чем стать Нью-Йорком) дали возможность остаться евреям только потому, что у них были деньги, которыми могли они откупаться, — точно так же, как в Йорке, древней столице Англии, англичане гордятся стеклами в соборе, забывая, что эти стекла есть еврейский пот и еврейская взятка — опять за то же, за то, чтобы не громили и не гнали евреев. Вся история евреев окрашена погромами и гонениями, — и вся их история окрашена тем, что евреи — еврейство — не потеряли своего облика и через века пронесли свою мечту, свою тоску, извечную свою печаль — печаль и тоску вечного народа, — пусть гонимого, но все же сшивавшего и сшивающего историю человечества красною нитью иудаизма. И навсегда у евреев осталась мечта о своем государстве, об Иерусалиме, о своих пророках и о своих буднях. Триста лет тому назад смирнский еврей Саббатай-Цеви был возвеличен в Мессии, и тысячи еврейских семейств пошли тогда за Саббатаем — умирать. 2 ноября 1917 года английский министр иностранных дел сэр Бальфур написал еврею лорду Ротшильду о том, что Палестина, под мандатом Англии, отныне есть национальный очаг еврейского народа.