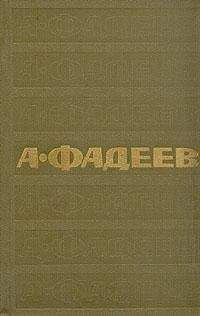Александр Фадеев - Разгром
Но теперь он вновь испытывал сильное волнение, и он чувствовал, что это как-то связано с новым его состоянием, со всеми его мыслями о себе, о смерти Метелицы.
Пока подползала цепь, раскинувшаяся по кустам, он все же овладел собою, и его маленькая собранная фигурка, с уверенными, точными движениями, по-прежнему предстала перед людьми как олицетворение некоего безошибочного плана, в который люди верили по привычке и по внутренней необходимости.
Эскадрон был уже так близко, что слышен был конский топот и сдержанный говор всадников, — можно было различить даже отдельные лица. Левинсон видел их выражения — особенно у одного красивого и полного офицера, только что выехавшего вперед с трубкой в зубах и очень плохо державшегося в седле.
«Вот зверь, должно быть, — подумал Левинсон, задержавшись на нем взглядом и невольно приписывая этому красивому офицеру все те ужасные качества, которые обычно приписываются врагу. — Но как бьется у меня сердце!.. Или стрелять уже? стрелять?.. Нет, возле той березы с ободранной корой… Но почему он так плохо держится?.. Ведь как же нело…»
— Взво-о-од! — закричал он вдруг тонким протяжным голосом (как раз в это мгновенье эскадрон поравнялся с березой с ободранной корой). — Пли!..
Красивый офицер, услыхав первые звуки его голоса, удивленно поднял голову. Но в ту же секунду фуражка слетела с его головы, и лицо его приняло невероятно испуганное и беспомощное выражение.
— Пли!.. — снова крикнул Левинсон и выстрелил сам, стараясь попасть в красивого офицера.
Эскадрон смешался; многие попадали на землю, но красивый офицер остался в седле, лошадь, оскаля зубы, пятилась под ним. В течение нескольких секунд растерявшиеся люди и лошади, вздымавшиеся на дыбы, бились на одном месте, крича что-то, неслышное из-за выстрелов. Потом из этой сумятицы вырвался отдельный всадник, в черной папахе и в бурке, и заплясал перед эскадроном, сдерживая лошадь напряженным жестом, размахивая шашкой. Остальные, как видно, плохо повиновались ему, — некоторые уже мчались прочь, нахлестывая лошадей; весь эскадрон ринулся за ними. Партизаны повскакали с мест, — наиболее азартные побежали вдогонку, стреляя на ходу.
— Лошадей!.. — кричал Левинсон. — Бакланов, сюда!.. По коням!..
Бакланов со свирепым, перекошенным лицом пронесся мимо, вытянувшись всем телом, откинув понизу руку с шашкой, блестевшей, как слюда, — за ним с лязгом и гиком мчался взвод Метелицы, ощерившись оружием.
Вскоре весь отряд поскакал за ними.
Мечик, увлеченный общим потоком, мчался в центре этой лавины. Он не только не испытывал страха, но даже утерял всегда присущее ему свойство отмечать собственные мысли и поступки и расценивать их со стороны, — он только видел перед собою чью-то знакомую спину с чубатой головой, чувствовал, что Нивка не отстает от нее, что враг бежит от них, и вместе со всеми на совесть старался догнать врага и не отстать от знакомой спины.
Казачий эскадрон скрылся в березовой роще. Через некоторое время оттуда посыпались частые ружейные выстрелы, но отряд продолжал скакать, не только не замедляя хода, а еще больше горячась и возбуждаясь от выстрелов.
Вдруг мохнатый жеребец, мчавшийся впереди Мечика, ткнулся мордой в землю, и знакомая спина, с чубатой головой, полетела вперед, вытянув руки. Мечик вместе с другими обогнул что-то большое и черное, копошившееся на земле.
Не видя больше знакомой спины, он впился глазами в рощу, стремительно надвигавшуюся на него… Маленькая бородатая фигурка на вороном жеребце, что-то кричавшая и указывавшая шашкой, на одно мгновение мелькнула перед глазами… Несколько всадников, скакавших рядом, вдруг свернули влево, но Мечик, не сообразив, в чем дело, мчался в прежнем направлении, пока не влетел в рощу и чуть не разбился о стволы, расцарапав себе лицо о голые ветви. Он едва удержал Нивку, рвавшуюся, обезумев, через кусты.
Он был один — в мягкой березовой тиши, в золоте листьев и трав…
В то же мгновенье ему показалось, что роща кишит казаками. Он даже вскрикнул и не помня себя ринулся обратно, не обращая внимания, как острые колючие ветви хлещут его по лицу…
Когда он снова выехал на поле, отряда не было. Шагах в двухстах от него лежал убитый конь со сбившимся седлом. Возле, подогнув ноги, безнадежно обхватив руками колени, прижатые к груди, не шевелясь, сидел человек. Это был Морозка.
Мечик, устыдясь своего страха, шагом подъехал к нему.
Мишка лежал на боку, оскалив зубы, выкатив большие, остекленевшие глаза, согнув передние ноги, с острыми копытами, точно он и мертвый собирался скакать. Морозка смотрел мимо него блестящими, сухими, невидящими глазами.
— Морозка… — тихо позвал Мечик, остановившись против него и переполняясь вдруг слезливой доброй жалостью к нему и к этой мертвой лошади.
Морозка не шевельнулся. Несколько минут они оставались так, не говоря ни слова, не меняя положений. Потом Морозка вздохнул, медленно разжал руки, встал на колени и, по-прежнему не глядя на Мечика, начал отстегивать седло. Мечик, не решаясь больше заговорить, молча наблюдал за ним.
Морозка распустил подпруги — одна из них была разорвана, — он внимательно осмотрел оторванный, выпачканный в крови ремешок, повертел в руке и выбросил его. Потом, кряхтя, взвалил на спину седло и пошел по направлению к роще, согнувшись и неловко ступая кривыми ногами.
— Давай я отвезу, или, хочешь, садись сам — я пешком пойду! — крикнул Мечик.
Морозка не оглянулся, только еще ниже склонился под тяжестью седла.
Мечик, стараясь почему-то больше не попасться ему на глаза, сделал большой крюк влево и, когда обогнул рощу, увидел неподалеку село, раскинувшееся поперек долины. В пространной низине, справа от него — до самого хребта, отвернувшего в сторону и затерявшегося в мутно-серой дали, — виднелся лес. Небо — такое чистое с утра — теперь висело низкое и невеселое, — солнце едва проступало.
Шагах в пятидесяти лежало несколько зарубленных казаков. Один был еще жив, — он с трудом приподнимался на руках и снова падал и стонал. Мечик далеко объехал его, стараясь не слышать его стонов. Из деревни, навстречу ему, ехало несколько конных партизан.
— У Морозки коня убили… — сказал Мечик, когда они поравнялись с ним.
Никто не ответил ему. Один окинул его подозрительным взглядом, словно хотел спросить: «А ты где был, когда мы тут бились?» Мечик, осунувшись, поехал дальше. Он был полон самых недобрых предчувствий…
Когда он въехал в село, многие из отряда уже разошлись по квартирам, — остальные толпились возле большой пятистенной избы, с высокими резными окнами. Левинсон, стоя на крыльце в сбившейся шапке, потный и пыльный, отдавал приказания. Мечик спешился возле забора, где стояли лошади.
— Откуда бог принес? — насмешливо спросил отделенный. — По грибы ходил, что ли?
— Нет, я отбился, — сказал Мечик. Ему было все равно теперь, что о нем подумают, но по привычке он оправдывался. — Я в рощу попал, вы, кажется, там влево свернули?
— Влево, влево! — радостно подтвердил один белобрысый партизанчик, с наивными ямочками и петушиным задорным хохолком на макушке. — Я кричал тебе, да ты не слышал, видать… — И он восторженно посмотрел на Мечика, как видно с удовольствием вспоминая все подробности дела. Мечик, привязав лошадь, сел рядом с ним.
Из переулка вышел Кубрак в сопровождении толпы мужиков, — они вели двоих со скрученными назад руками. Один был в черной жилетке и с несуразной, точно приплюснутой головой в неровной проседи, — он сильно трясся и просил. Другой — тщедушный попик в растерзанной ряске, сквозь которую виднелись его измятые штанишки с отвисшей мошонкой. Мечик заметил, что к поясу у Кубрака прицеплена серебряная цепочка — как видно, от креста.
— Этот, да? — бледнея, спросил Левинсон, указав пальцем на человека в жилетке, когда они подошли к крыльцу.
— Он… он самый!.. — загудели мужики.
— И ведь такая мразь, — сказал Левинсон, обращаясь к Ста-шинскому, сидевшему рядом на перилах, — а Метелицы уже не воскресишь… — Он вдруг часто замигал и отвернулся и несколько секунд молча смотрел вдаль, стараясь отвлечься от воспоминаний о Метелице.
— Товарищи! милые!.. — плакал арестованный, глядя то на мужиков, то на Левинсона собачьими, преданными глазами. — Да неужто ж я по охоте?.. Господи… Товарищи, милые…
Никто не слушал его. Мужики отворачивались.
— Чего уж там: всем сходом видели, как ты пастушонка неволил, — сурово сказал один, окинув его безразличным взглядом.
— Сам виноват… — подтвердил другой и, смутившись, спрятал голову.
— Расстрелять его, — холодно сказал Левинсон. — Только отведите подальше.
— А с попом как? — спросил Кубрак. — Тоже — сука… Офицерей годувал.
— Отпустите его, — ну его к черту!
Толпа, к которой присоединились и многие партизаны, хлынула вслед за Кубраком, потащившим человека в жилетке. Тот упирался, сучил ногами и плакал, вздрагивая нижней челюстью.