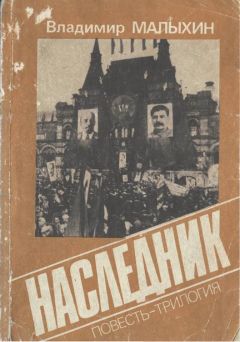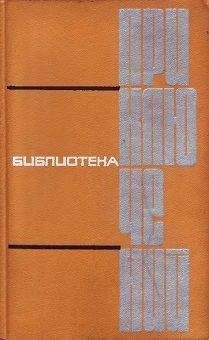Лев Славин - Наследник
– Здорово, орлы! – крикнул Мартыновский, отворив нам дверь. Он по-прежнему был в форме прапорщика Земского союза.
Мы стали во фронт и ответили, как полному генералу.
– Здра-жла-ваш-сок-дит-сво!
Мартыновский захохотал, придя в восторг. Сейчас же он сделался серьезным и сказал:
– Здесь сам Левин.
Он повел нас через темные комнаты, где тускло отсвечивали паркет и кожа, в кабинет генерала Епифанова. Здесь Мартыновский сделал себе, как он говорил, «мое ателье». В кабинете был зажжен камин. На столе стоял ужин, приготовленный рачительным хозяином. У камина сидели трое: Кипарисов (он с сердечностью обнял нас), Рымша, интернационалист Рымша, весь разлившийся в доброй улыбке, и третий, незнакомый мне, отягощенный широкими плечами, согнувшийся под их бременем, должно быть, Левин. Он мельком глянул на нас, и я увидел, что он сильно косит.
Стамати начал рассказывать о нашей работе в полку, прерываемый поминутно вопросами. Я заметил, что к Левину, который сохранял угрюмую молчаливость, все обращались с большим уважением. Я вспомнил, что он крупный работник, член городского комитета, тогда как Кипарисов – только студенческого. Я стал присматриваться к Левину с тем непреодолимым любопытством, которое я испытываю к новым лицам. У него было грузное, пространное, тонкогубое, необъяснимое лицо. Это лицо держалось на двух скулах, огромных, как автомобильные шины. И если правда, что нужно описывать не лицо, а свое впечатление от лица, то от его лица было впечатление силы, ехидства, ума, развратности, воодушевления. Оно сияло над столом, как страна, полная равнин и неба. И по нему тенями проносились мысли. Величайшая снисходительность шла от каждого его жеста, от смыкания ресниц, от поигрыванья кончиком ноги, небрежно заброшенной на другую ногу. Наконец он заговорил, и мы услышали голос гиганта, намеренно сдавленный, приспособленный для несовершенного слуха окружающих; казалось, заговори он в полную силу, мы все оглохли б.
– Словом, армия готова, недостает только Бонапарта, – вдруг сказал он.
И засмеялся собственной шутке. Нет, он не смеялся, он произносил те звуки, которыми обозначают в книгах смех: «Ха-ха!» Должно быть, мы были недостойны его настоящего смеха. На всякий случай я тоже усмехнулся. Остальные молчали, с уважительностью глядя на Левина.
– Базовый склад литературы, – продолжал Левин, обводя нас взглядом (и казалось, что он дважды посмотрел на каждого – сначала косым глазом, потом обыкновенным), – будет устроен в гимнастическом обществе «Турн-Феррейн», что в Инвалидном переулке. Товарищам, работающим в армии, надлежит за литературой обращаться именно туда, к преподавательнице гимнастики Луизе Крафт.
Я вздрогнул и посмотрел на Стамати. Но он не обращал на меня внимания.
– Демонстрацию, – продолжал Левин, – думается, можно бы наметить на послезавтра. Постараемся, чтобы вас поддержали и другие части.
Когда мы с Володей вышли на улицу, он с восхищением сказал:
– Вот это парень! А? Вот это настоящий подпольщик!
Меня Левин тоже поразил. Образ Кипарисова бледнел и рассыпался. Я пожалел, что за все время заседания не вымолвил ни слова. Пожалуй, Левин и не заметил меня. Ничего, все-таки я в центре удивительных событий. Я замечтался до того, что настоящее видел как прошлое, как картинки в журнале «Былое»; я видел, как растет литература об этом еще не произошедшем выступлении, полемику ученых, письма, комментарии, среди которых мои будущие мемуары занимают не последнее место.
– Итак, послезавтра! Этот вопрос мы обсуждали с Володей всю дорогу.
– Согласится ли рота? – спросил Стамати, толкая калитку. – Или ограничиться взводом?
– За литературой, пожалуй, пойду я, – сказал я, протягивая увольнительные записки часовому, который их наткнул на штык.
– Беги! Ротный! – задыхаясь, шепнул Стамати и бросился под лестницу, в тень.
Я замер, не понимая. Навстречу надвигалась фигура, позвякивая шпорами.
– Поди-ка сюда! – медленно произнесла фигура.
Я подошел и взял под козырек. Это был поручик Третьяков.
Он покачивался. От него несло вином.
– Где ночью был?
– В городе, ваше благородие!
– Кто разрешил?
– Вы, ваше благородие!
Третьяков смотрит на меня в упор. Он похлопывает ресницами в некотором недоумении, как гастроном над меню, уже выбравший кролика, но еще не решивший, съесть ли его в тушеном виде или зажарить в сметане с кореньями. Я жду спокойно. Ну чем он может оскорбить меня? «Болван» я уже слышал. «Жид» тоже слышал. Штаны снимал. Я спокоен. Я сильней его. Я явственно ощущаю в себе это новое чувство силы. По-видимому, и Третьяков ощущает ее во мне. Он силится придумать что-нибудь новое, точное, что сразило бы меня наповал. Наконец он говорит:
– Вольноопределяющийся, вам кланялась мадемуазель Шахова. Мы с ней сегодня побаловались немножко… – Он делает циничный жест.
– Скотина! – кричу я на весь двор и замахиваюсь кулаком.
Поручик отскакивает и свистит.
Из караульного помещения выбегает разводящий.
– Взять его! – кричит поручик. – В темную!
Два солдата ведут меня в карцер. Я слышу, как разводящий защелкивает замок и ставит снаружи часового.
В темноте нащупываю скамейку и ложусь на нее, запрокинув руки за голову.
Что они сделают со мной? Будут судить? Сошлют в дисциплинарную роту? В штрафной батальон? Расстреляют? Но мне не хочется думать. Удивляясь собственной беспечности, я засыпаю и долго сплю без сновидений, смутно слыша, как часовые сменяют друг друга, топоча сапогами.
Я проспал утреннюю зорю, полдник и обед. На моих часах было два, когда я вскочил со скамьи, разбуженный щелканьем замка. Ах, как я хочу есть! Может быть, они решили пытать меня голодом?
– Иди в роту! – крикнул разводящий, открывая дверь. – Ротный дожидает тебя в канцелярии.
Я побежал в роту. Я хотел увидеть поручика сию же минуту. Я задыхался. Я распустил все силы своего мозга. Я решил увенчать свою жизнь безумно героическим поступком, – вот когда подошла моя минута! – сорвать с Третьякова погоны, выволочь его на середину роты и, прежде чем меня арестуют, выкрикнуть зажигательную революционную речь. Может быть, с этого начнется восстание, и наша рота опередит весь гарнизон, и Левин, сидя у себя в подполье, будет восхищаться, и это историческое восстание одесского гарнизона навсегда будет связано с моим именем. Больше всего я боялся, чтобы это мое решение по дороге не ослабло, я вспомнил про Катю и почувствовал удвоенный прилив желания разорвать Третьякова.
Я вбежал в канцелярию, не постучавшись, не сказавши, как полагается: «Ваше благородие, дозвольте войти», – не щелкнув каблуками, не взявши под козырек. Третьяков поднял голову и улыбнулся.
– Поручик, – крикнул я, задыхаясь от гнева, – вы бесчестный человек!
– Ну вот еще! – протянул поручик и с видом крайнего добродушия похлопал меня по животу. – Мы оба погорячились – и хватит. Ну и нервный же вы, коллега Иванов!
Я оторопел. Поручик меж тем усадил меня на стул и сунул мне раскрытый портсигар.
– Вы знаете, – говорил он, взгромоздившись на стол и фамильярно болтая ногами в лаковых сапожках, – мне так надоела эта проклятая военная служба! Грязь, грубость, скотство. Сам как-то грубеешь. Разве это обстановка для интеллигентного человека? Возьмем меня. Ведь я мечтаю о сцене. Между нами говоря, у меня находят приличный талант. Вы, верно, замечали, я иногда даже в казарме прикидываюсь этаким бурбоном, военной косточкой, ну, словом, в духе роли Скалозуба. Вы знаете, когда нет возможности играть на сцене, приходится упражняться в жизни, чтобы окончательно не отстать.
Я курил одну папиросу за другой. Уже нельзя было и думать о том, чтобы наброситься на Третьякова. Заряд моего бешенства весь расточился в воздухе, как удар боксера, когда его противник ныряет под руку.
Я покосился на поручиково лицо со страхом: неужели он предвидел, что я собирался делать? Мне приходилось читать и слышать про ловкачей следователей, про жандармов-психологов, которые мягкостью обращения выпытывали у революционеров все их тайны. Я решил молчать, как труп.
Но поручик ничего не говорит об организации, он продолжает болтать всякий вздор, сыплет старыми анекдотами, хватает меня поминутно за руку, признаваясь в любви к глинтвейну, в давнишнем либерализме.
– Ты знаешь, – говорит он, в припадке дружбы переходя на «ты», – Милюков – это – между нами, конечно, только – голова! О, это голова!
Безумная мысль мелькнула у меня: вспыхнула революция, и поручик подлизывается ко мне, как к одному из ее вождей. Но тотчас я посмеялся над собой: портрет царя по-прежнему висит на стене, издалека доносится пенье солдат, разучивающих «Боже, царя храни», самодержавие прет отовсюду. Так быстро революции не делаются, Сережа!
Поручик меж тем с добродушной грубоватостью старого приятеля выталкивает меня из канцелярии, похлопывая по плечу и приговаривая: