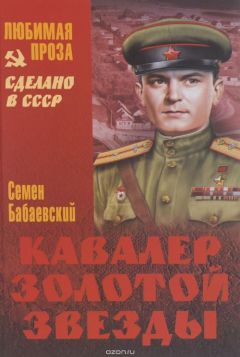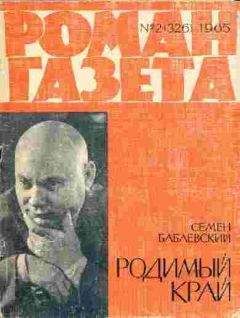Семен Бабаевский - Сыновний бунт
Нужно было во что бы то ни стало скосить весь хлеб не в шесть дней, как было предусмотрено планом, а в пять. Почему? Об этом знал один Иван Лукич. Ему хотелось и в этом году порадовать Скуратова и удивить и позлить своих соседей, и особенно Илью Игнатенкова. Давно привыкли в районе, что «Гвардеец» всегда шел первым и постоянно всех опережал. Так зачем же ломать эту хорошую привычку? На районном совещании никто из председателей не взял такие сжатые сроки — шесть дней! Побоялись, смелости не хватило… Называли и десять, и восемь, и даже семь дней, а вот шесть никто не назвал, а Иван Лукич Книга назвал. Про себя же Иван Лукич ещё тогда, на трибуне, подумал, что можно управиться, если подналечь, не в шесть, а в пять дней…
Теперь же, мысленно разговаривая с бригадирами и чувствуя, как болит натерта я щека, Иван Лукич, все ещё не решаясь распрямиться, думал: все ли лафетные жатки вышли в поле, все ли подвезено к загону, что нужно было] подвезти и подготовить заранее? Поправляя руку, чтобы щеке не так было больно, Иван Лукич в уме ещё раз проверил свои одному ему известные расчеты: если тридцать восемь лафетных жаток будут работать от зари до зари и если в эти дни не будет дождей, то на четвертые сутки останутся несваленными гектаров двести… А если случится дождь или поломки трактора, жатки? Мысли эти были неприятны Ивану Лукичу, и ему не терпелось самому побывать на каждом участке и, как командиру перед атакой, все осмотреть, и все пров% рить…
И он уже ругал себя за то, что поехал встречать Алексея. Могла бы встретить одна Ксения. Не встречал же Ивана, и ничего, мог бы не встретить и Алексея. Сам бы нашел дорогу в Журавли… «Ну, ничего, дело это ещё поправимо, — думал он. — Сегодня обскачу все бригады и все проверю… Так что, Ксюша, и сегодня тебе не придется спать… Отвезем молодцов в Журавли, а сами сейчас же в степь и не вернемся, пока все хлеба не запестрят валками…»
Поднял голову. Он был так взволнован думами, что сразу же полез в карман за папиросами. Сладко потянулся, закурил.
— Хорошо поспали, Иван Лукич?
— Добре вздремнул… А ты чего такая свежая да румяная?
— Умылась. — Ксения, краснея, не хотела говорить правду. — Вы спали, а я остановилась у берега и умылась… Неужели не слышали? Ой, вода холодная!
— Да, да, она и должна быть холодная, течет же из-под ледников. — Иван Лукич посматривал на поля. — А где мы находимся? Курсавку проехали?
— Подъезжаем. — Ксения взглянула на часы. — Не беспокойтесь, Иван Лукич, к самолету мы поспеем… ещё и ждать придется.
Темный и местами размякший от тепла асфальт шипел под резиной, как шипит костер, когда его заливают водой. Стрелка спидометра замерла на цифре «100», и её красная головка, точно язычок пламени, чуть-чуть вздрагивала и как бы говорила: хватит, хватит, и так уже много! Иван Лукич тоже полагал, что быстрее ехать нет нужды. Мысленно он соглашался с Ксенией, что приедут они на аэродром раньше времени, и мол-. чал. Смотрел на чужие поля и невольно сравнивал со своими. Мимо проносилась то кукуруза, и была она не такая высокая и не такая зеленая, как на журавлинских хуторах, и Иван Лукич, сам того не желая, этому радовался; то горящим покрывалом раскинулся цветущий подсолнух, да, хорошо, такого подсолнуха не имеет и «Гвардеец», и Ивану Лукичу почему-то было грустно; то расстилались клетки озимых, нет, нет, и ростом пшеница не вышла, да и колос жиденький, и Иван Лукич улыбнулся.
— Иван Лукич, а можно у вас спросить?
— А почему нельзя? — неохотно ответил Иван Лукич. — Спрашивай… Что там у тебя?
— Я насчет Ивана. Никак не могу его понять. — её веселые и от недавнего купания, и от бившего в лицо солнца глаза вспыхнули. — И чего он сделался такой сумрачный? Такой ещё молодой, а уже такой злющий… Раньше, помню, он таким не был…
— С дороги, видно, приморился, — сказал Иван Лукич и, глядя на низкую, местами с плешинами пшеницу, подумал: «То, что он молодой, ты сразу приметила… Да и в школе, помнится, тоже Ивана примечала… Может, чего доброго, могла бы стать моей невесткой…»
— В тот день, когда вы сказали, чтобы я его отвезла, — продолжала Ксения, блестя глазами, — я с ним ласково говорила и вообще старалась угодить, чтоб все было по-хорошему. А он озверился на меня — страсть! И через то не могу его понять…
— А зачем тебе его понимать?
— Может, он чего на вас обозленный?
— Ну, а ежели, допустим, и на меня? Тогда что?
— Ой, дурной Иван, ой, дурной! Разве можно!.
Ксения считала Ивана Лукича не только человеком большим, всеми уважаемым, но и самым сердечным, добрым к людям. Она всегда желала во всем ему угодить, помочь, сделать ему что-либо приятное. И она сказала:
— Хотите, Иван Лукич, послушать моего совета?
— Ну, допустим, хочу…
— Вы покажите Ивану все, чего достиг «Гвардеец», и все богатство, что при вас нажито… А что вы смеетесь?
— Для чего, Ксюша? Что у нас, в «Гвардейце», невеста на выданье, и мы тут будем смотрины устраивать?
— Да нет же, зачем, — волнуясь ещё больше, говорила Ксения. — Я думаю так: увидит Иван все, что вы сделали и каким стал «Гвардеец», и сразу помягчает и поймет, какой у него замечательный отец…
— Сделал, Ксюша, не я один, а мы все вместе, и ты в том числе…
— Все одно, Иван умный, он поймет…
— Ты думаешь, поймет?
— Беспременно! — уверенно ответила Ксения. — Дайте ему машину, и пусть он объездит все бригады и все фермы. — И несмело добавила: — Могу, если вы скажете, и я его свозить…
Все так же глядя на дорогу, Иван Лукич хму- рил брови, думал: «Это я понимаю, ты, Ксюша, не только сможешь повезти Ивана по бригадам, а и влюбить его в себя… А почему бы и не так? Люди молодые, всё могут… Да и не в этом суть. А в чем же? А может, пожелания Ксении и имеют резон? А что, пусть и в самом деле этот молодой архитектор поездит по хуторам и поглядит наши достижения…»
Мысль эта вдруг показалась ему и важной и нужной. «И пусть через богатство наше Иван увидит не того батька, каковой по дурости отхлестал сына плетью, а того батька, который всю эту жизнь построил и дал людям облегчение… И ничего, пусть повезет его Ксения, и пусть они, ежели того пожелают, слюбятся… Мне-то тут что за печаль? Голощекову печаль может быть, это верно… Да и кто она мне, эта Ксения Голощекова?.. Только что-то сердце мое побаливает, ноет, когда я о ней думаю, вот, брат, какая штуковина…»
И все же Иван Лукич не высказал эти мысли вслух. Надо хорошенько обдумать, может, и нет нужды показывать Ивану хутора и хвалиться перед ним… Весь остаток пути, глубоко задумавшись, Иван Лукич проехал молча. Молчала и Ксе-ния, занятая рулем и дорогой. Только на повороте, когда и показалось серое, укатанное колесами просторное поле, и повисла в небе полосатая, слабо надутая ветром парусиновая труба, и засверкали крыльями стоявшие в ряд самолеты, точно огромные белые птицы перед взлетом, Ксения крикнула:
— Ой, какая красота! Поглядите, Иван Лукич!
ХХVIII
Каштаны, густая тень у подъезда… Белые колонны, вышка, как фонарь. На крыше печально повисла полотняная труба. Пассажиры сидели в зале, на диванах, разместились и на скамейках под каштанами и шли на посадку следом за тачкой, на которой громоздились чемоданы. Слышался голос диктора, а за зданием не умолкал размеренный гул моторов…
Иван Лукич вышел из машины и прислушался. Диктор объявил о прибытии самолета. Нет, это был не тот рейс, с которым прилетали Алексей и Яша. Иван Лукич хотел пройти в справочное бюро, но услышал зычный командирский бас:
— Иван Лукич! Привет!
Пожилой мужчина в форме летчика гражданской авиации обрадованно протянул руки, точно встретил своего старого друга.
— Да ты что удивляешься, друг?! Неужели не узнаешь?
Летчик с таким усердием жал руку смущенному Ивану Лукичу, так её сжимал в своих жестких, с бугорками мозолей ладонях и при этом так по-детски трогательно улыбался, что Иван Лукич тоже улыбнулся и подумал: «Какой приятный человек… Только кто он? И где мы с ним встречались? Никак не припомню… Спросить неудобно, ещё обидится… Может, какой фронтовой друг? Сколько было на войне встреч!..»
Иван Лукич и краснел и все молча улыбался, словно говоря этой улыбкой и этой краской на усатом лице, что и он тоже рад встрече и от радости даже ничего не может сказать. Сам же все приглядывался к веселому и ещё красивому, в крупных морщинах и с крупным носом лицу незнакомца и силился узнать, кто он и где они встречались, и не мог. Перед ним стоял совершенно седой, рослый, плечистый и ещё очень стройный летчик, будто и знакомый и будто незнакомый.
— Иван Лукич, и что ты на меня так глядишь? — раскатисто смеясь, крикнул летчик. — Не вспомнишь? А ты поднатужься и припомни! Ну, ладно, я тебе подскажу…. В прошлом году летом, когда ты возвращался с сессии, я был командиром самолета, и мы с тобой беседовали… Ну, вспомнил? А я тебя, Иван Лукич, сразу узнал! И ты не удивляйся, друг. Кто нынче не знает Ивана Лукича Книгу? А ты не тушуйся, не крути ус, тебе это не идет. И знают тебя, Иван Лукич, люди не по твоим приметным усам, а по делам твоим! — И снова, не давая. Ивану Лукичу сказать слова, схватил его руку своими твердыми ладонями. — Неужели ты позабыл мою фамилию? Она у меня, как и у тебя, книжная. Нечитай-лов я… Антон Никифорович Нечитайлов! Точнее сказать, от слова «не читай»… Только теперь Нечитайлов уже является бывшим командиром воздушного корабля…