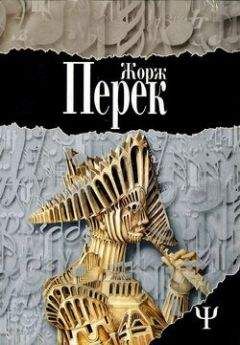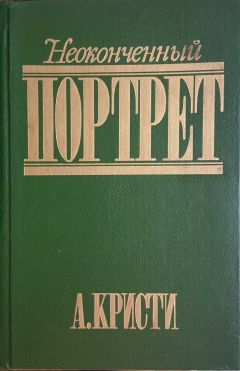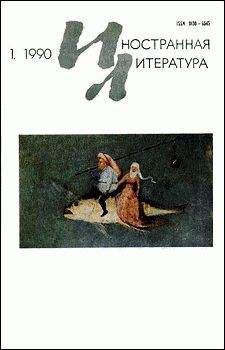Юрий Трифонов - Исчезновение
Не было человека в мире, которого Сергей ненавидел бы более, чем Воловика. Он не спрашивал Аду, но почему-то был убежден, что Воловик поставил ее в безвыходное положение, одурманил хитростью, загнал в капкан. Было так: прошлым летом на Николиной горе, куда Сергей ездил погостить к приятелю, он познакомился с Адой на волейбольной площадке. Потом осенью пришел к Воловику сдавать зачет: того раздуло флюсом, он сидел дома, как старая баба, повязавшись шерстяным платком. И увидел Аду. Потом они пошли в консерваторию на «Орфея и Эвридику». Потом встречались во дворе, гуляли по набережной до Стрелки и обратно. Все истинное началось недавно. Воловик яростно воплощал в жизнь решения февральско-мартовского пленума: пропадал до ночи на совещаниях, конференциях, громил, выкорчевывал, разоблачал. Его фамилия мелькала в отчетах. Сергей не мог без сжимания кулаков читать: «...т. Воловик на фактах раскрыл вражескую подоплеку выступления». Это было, может быть, подлостью, но, когда Сергей, обнимая Аду, вспоминал вдруг воловиковские фразочки, страсть его бурно возрастала.
Он пытался разгадать: что соединило этих разных людей? И что так внезапно отбросило друг от друга? Видимо, было общее, какие-то струны звучали в унисон, но было и что-то непреодолимо чужое. Этим общим, по догадке Сергея, была чувственность, поспешная и ранняя – Ады, запоздалая, ожесточившаяся – лысого сатира. И еще: насмешливость ко всему, что окружало, к людям, словам, вещам. А чужим была суть того и другой, которая постепенно очищалась и, наконец, к исходу четвертого года вышла наружу: сутью одного была подделка, вранье, сутью другой – природа, истинность. Так казалось Сергею, и ему страстно хотелось, чтобы это было правдой.
– Идем пить чай. Хочешь чаю? – Не дожидаясь ответа, она вела его за руку по коридорчику на кухню. – Садись!
Он сел к столу. Смотрел на ее чуть выгнутую сильную спину с круглыми боками, спину неутомимой волейболистки, пока она возилась у газовой плиты, чиркала спичками, полоскала чайник. Все ее движения были упруги, полны тайной силы. Она возилась как-то слишком долго, молча, стоя к нему спиной, и он не видел ее лица, тревога вдруг овладела им. Он сказал, что договорился со своим другом, который живет на Дмитровке, и в июне можно переехать в его квартиру на все лето.
– Сергей, я не могу оставить Зиновия Борисовича, – сказала Ада, повернувшись к нему. И он увидел в ее глазах что-то жалкое, понял, что она говорит правду. – Сейчас не могу...
Ошеломленный, он молчал мгновение, потом рванулся к двери.
– Подожди! Я хочу... объяснить тебе... Сережа!
– Зачем? Прощай! Я вижу, ты действительно не можешь. А почему, это не так важно.
Но она сильной рукой оттянула его от двери. Он снова сел в угол на табуретку. У него не было сил ни слушать, ни спрашивать. Она сказала, что все изменилось за последние несколько дней: Воловику грозят смертельные неприятности. Арестованы два члена редколлегии и его заместитель в журнале. Три дня назад было отчетно-перевыборное собрание сотрудников журнала, где Воловика топтали его друзья, никто не заступился, никто не опроверг диких обвинений. Во вчерашнем номере «Известий» есть заметка об этом собрании.
– Неужели не читал?
– Нет.
Ада пошла в комнату за газетой.
«Она его любит? – ужаснулся Сергей. – Этого пустозвона, эту жулябию?.. Но ведь столько было сказано о том, как он ей ненавистен, как непереносимы его прикосновения. Но я не могу с ней расстаться, не могу, не могу!»
– Уйти от него сейчас низко... Это все равно что... – Она бросила на стол газету. – Я думала, что нападки на него связаны, может быть, со мной, с этой Левиной историей, но он говорит – это не имеет значения. Он сказал, что уголовщина – прекрасное, чистое дело, он с радостью украл бы у кого-нибудь бумажник и сел в тюрьму. Переждать, как он говорит, полгодика. А когда уезжал вчера на Николину гору, вдруг сказал: «Запомни, единственное, что я любил в жизни, это ты...»
Сергей, с трудом вникая, читал газетную заметку на последней полосе. «Выступавшие товарищи на ряде примеров показали, как притупление бдительности и отсутствие самокритики облегчают врагам народа их подлую деятельность. Так, разоблаченный в настоящее время троцкистский вредитель, бывший заместитель главного редактора...»
– А зачем он поехал на Николину гору? – спросил Сергей.
– Там на даче есть какие-то документы, которые могут понадобиться. Что-то подтверждающее его работу в годы Гражданской войны. И потом надо попасть к Александру Васильевичу, наши дачи рядом. Александр Васильевич к нему всегда относился хорошо.
– Почему-то я за него не волнуюсь, – сказал Сергей, неприятно задетый словами Ады «надо попасть» и «наши дачи». Она говорила как единомышленница Воловика. Раньше она всегда отделяла себя от него. Сострадание? Для такой, как Ада, это почти любовь. Не дай бог с ним что-то случится, тогда она будет потеряна навсегда, свихнется от сострадания. Он ловил в скачущих газетных столбцах строчку...
Вот: «...еще несколько лет назад выпустил книгу, кишащую антимарксистскими положениями. Никакой критике эта стряпня не подвергалась. Мало того, главный редактор журнала Воловик считал возможным держать замаскированного врага на должности своего заместителя. Большевистский метод подбора кадров сплошь и рядом подменялся „принципом“ делячества и семейственности. Только этим можно объяснить, что такие заклятые враги народа, как Смирнов и Урбанович, представляющие собой полное ничтожество в научном отношении... Идиотская болезнь – беспечность привела к тому, что в 1936 году журнал поместил статью о борьбе т. Сталина за диалектический материализм, написанную врагом народа... С настороженным вниманием была заслушана речь Воловика, выступавшего дважды по требованию актива... Беспринципное, лишенное истинной самокритики и путаное выступление главного редактора не удовлетворило... откат на позиции меньшевиствующего идеализма... в условиях отрыва теории от практики... решительно положить конец, выкурить изо всех нор».
– Какой-то бред, ничего непонятно... – Сергей стискивал ладонями виски. Внезапно заболела голова, как бывало в минуты сильного мозгового напряжения, но, как ни напрягался, ничего не мог понять. – Ведь он им нужен... Зачем же это делается?
Ада смотрела в окно. По ее остановившемуся взгляду он понял, что она не слышит. Увидел, что она объята состраданием, мощным и всепожирающим, как тяжелое опьянение, как боль всего тела, бывающая при болезнях сердца, почувствовал зависть к Воловику и с утроенной силой ненависть к нему. Раньше он завидовал ему и ненавидел его только за то, что он и Ада спали на одном диване, что их подушки лежали рядом, что он видел ее по утрам в халате и без халата, и за то, что Воловик был ее первым мужчиной. Но теперь его мука ото всех этих ощущений громадно усилилась, ибо он почувствовал боль ее души, п р и ч и н е н н у ю д р у г и м. И, странно, его собственное чувство любви тоже громадно и необъяснимо усилилось, толкнуло к ней: обнять, успокоить.
– Родная моя, ну что ты? Все обойдется... У него заслуги... – И, успокаивая ее, стал рассказывать, как Воловик выступал на общеинститутском собрании, как он громил и клеймил, невзирая на авторитеты, в точности как требовалось «критиковать, невзирая на лица и переживания этих лиц». С каким страхом обращался к нему директор, а представитель МК несколько раз в своем выступлении повторил: «Как указывал здесь товарищ Воловик». Так что, по мнению Сергея, бояться не следовало. Он-то как раз должен быть в порядке. Он из тех, кто бьет, но не из тех, кого бьют. Если ему и досталось слегка, то это недоразумение, которое непременно будет исправлено. Даже разумные люди поддаются психозу – вот, например... И он рассказал, какой вздор молол один его приятель, студент, казалось, неглупый малый, но, как выяснилось, большой дурак.
Ада успокоилась и заговорила о том, что происходит на студии. Она рассказывала почти со смехом, потому что на студии тоже творилась какая-то ерунда. Одного оператора, старика, обвинили в подрывной деятельности за то, что он неудачно снял кадр посещения Сталиным строительства канала Москва – Волга: один из кадров был испорчен, лицо Сталина затемняла тень дерева. Этот кадр оператор, он же режиссер ленты, сам забраковал и не вставил в сюжет, но кто-то вытащил пленку из корзины – а вся пленка со Сталиным, малейшие обрезки ее должны учитываться, их нельзя уничтожать, – и завертелось дело о преступном замысле, провокационной вылазке. В многотиражке появилась заметка «Наглая выходка врага». Бедный старик не знает, как спасаться, даже бросился за помощью к Аде: хотел, чтоб Воловик позвонил директору или парторгу студии, но Воловик отказался. С Воловиком происходит что-то неясное. Какие-то колесики побежали в обратную сторону. Это началось с марта. Он перестал понимать юмор. Он весь как-то перекосился, переменил мнения обо всем, обо всех. Давида Шварца раньше очень уважал, заказывал ему статьи для журнала, добивался этих статей, а теперь иначе как «ханжа» или «старый путаник» не называет. С отцом Ады, которого он тоже уважал и даже любил, недавно вдребезги разругался. А на днях пришел в гости старый его товарищ по ИКП, милейший человек, сейчас он инвалид, тяжелый сердечник, который позволил себе безобидно пошутить о Сталине – что-то по поводу его роста и роста Ежова, о том, что Ежов совсем коротышка, меньше Сталина, и что Сталину, мол, это должно нравиться. И вдруг Воловик стал на него орать: «Не смейте в моем доме! Я не желаю слушать!» Тот человек встал и, не прощаясь, ушел. Ночью Воловик не мог спать, стонал, терзался.