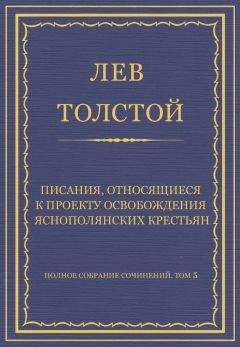Мариэтта Шагинян - Рождение сына
Но для Ильи Николаевича Ульянова оба эти манера оказались, в сущности, литературной иллюзией, отвлеченной, как и всякая иная иллюзия. Он выехал в казенной бричке, набившей ему в первый же час до боли бока. Пыль столбом стала при выезде из города. Ровная и унылая дорога плыла медленно, вдоль древнего вала, тянувшегося отсюда невысоким, непрерывным ребром до самой Москвы — остаток древней русской истории, когда наступала на эти равнины орда. Часами только и мелькало перед Ильей Николаевичем, немилосердно подбрасываемым на жестком сиденье, белое с черным, — это сливались в глазах бежавшие вдоль дороги «вёрсты полосаты». Переехали реку Свиягу, и стало совсем невмоготу. Сильные осенние дожди прошли недавно в этих местах. Вокруг — до самого горизонта — раскис чернозем, лежавший под паром. Кое-как, мимо бедной деревушки Баратаевки, где дали лошадям отдых, добрались на ночлег до Тетюшей. И что это был за ночлег!
Илья Николаевич еще не знал дорожных правил и не захватил с собой ни погребца, ни персидского порошка. Похлебав на ночь из одного котла с ямщиком, он улегся было на лавке, но до утра не мог сомкнуть глаз. Вдоль бревенчатых, плохо законопаченных стен непрерывным потоком шуршали клопы, обжигавшие ему непокрытую голову, лицо и руки. Воздух в ямщицкой избе был невыносимо спертый, керосиновая лампочка, всю ночь горевшая, светила тускло, как в шахте. Два крохотных оконца не имели и подобия форточки, но открыть их ему не удалось, — стекло было наглухо вделано в неподвижную раму. А рядом спали еще люди, он слышал тяжкий храп, видел изнеможенные от усталости лица — сон свалил их, как только тело опустилось на лавку.
Но утро, холодная струя из рукомойника, острый озон свежего деревенского воздуха принесли ему облегчение. От Тетюшей до Тагая идти пришлось пешком, чтоб не пали лошади. Дорога пошла по болотам. Сперва пробирались по гатям — искусственным насыпям, обложенным щебнем, щепками, прошлогодней соломой. Потом пошли зажоры — ямы с водой, чуть прикрытые неожиданно пошедшим ранним снегом. Лошади до колен проваливались и, хрипя, вытягивали из ям ноги под отчаянную ругань ямщика. Он тоже шел рядом, по пояс в грязи, а впереди были версты и версты все тех же гатей с теми же, полными черной воды, зажорами. Лишь на восьмой день добрались они до широко разлившейся под дождями и снегом полноводной Суры. На том берегу ее, поднимаясь над рекой, раскинулось Промзино. Неуклюжий паром ходил по Суре, и они едва нашли себе место между крестьянскими возами, мычавшими коровами, выпряженными конями, стоявшими, понурившись и прикрыв ресницами усталые глаза. Илья Николаевич заметил впервые седину старости в лошадиных гривах и ресницы у лошадей, совсем как у людей. Но мысли его лишь мельком коснулись этих подробностей: он неотступно думал о том, что встретил в дороге.
За семь дней пути, всюду, где мог, он сворачивал в деревни, где была или должна была быть школа. Он посетил три из них и сейчас думал об этих школах. В одном месте его повели в караулку без окон. Зимою она освещалась из открытой двери. С десяток ребят сидели в этой сторожке за двумя наспех сколоченными столами. Старинным способом, по складам, их обучала полуграмотная попадья, покуда муж ее отправлял дальнюю требу.
— И часто приходится вам заменять мужа? — спросил ее инспектор, войдя в сторожку.
— Коли время есть, отчего ж не заменить, дело нехитрое, — словоохотливо отозвалась попадья, еще не зная, кто пожаловал к ним.
Разутые, с посинелыми носами, хотя стужа еще по-настоящему и не началась, дети сидели нахохлясь, и было видно, что их привели сюда точь-в-точь так, как развязывая тряпицу, отдают мужики, вздыхая, дорого доставшуюся гривну на школьный сбор: заплачено — отрабатывайте.
За инспектором в сторожку вошел, сконфуженно улыбаясь, местный староста — маленький рябой мужичонка. Он не видел никакого проку в грамоте, которой и сам не обучался; он не видел проку загонять сюда детей, чтоб тянули нараспев склады, когда могут подсоблять взрослым по хозяйству.
— Второй год одно тянут, рази ж это школа! — произнес он с явным неодобрением.
В другой деревне для школы отведена была грязноватая, с русской печью и заплеванными сенцами изба. Ночью в ней спал на печке сам учитель, отставной солдат.
— Детей почем зря колотит, — пожаловались на него бабы, — а напивается, на всю деревню горланит. Чему такой научит?
В третьем месте его встретила молодая, культурная помещица, с лицом тургеневской девушки. Явно гордясь, она повела его в светлую, большую комнату при барском доме, уставленную выписанными из города крашеными пюпитрами. Помещица оборудовала школу на свой счет и будет вносить на ее содержание триста рублей ежегодно. Вот только нет подходящего учителя. Ее племянницу не удалось уговорить остаться. Училищный совет обещал прислать… И она занимается пока сама.
— А где же учащиеся? — спросил ее инспектор, разглядывая картинки на стенах, чистые, нетронутые тетради на пюпитрах и большую аспидную доску с нетронутым мелком.
— Дети пока еще очень нерегулярно ходят, — ответила помещица, вспыхнув. Ей стыдно было признаться, что никто из детей не заходил в эту комнату, вспугнутые пронзительным ее окриком — снять сапоги с налипшей грязью. Что сталось бы с этой красавицей комнатой, если б дети пришли сюда как они есть! Она твердо решила построить баню и сперва привести их в порядок, сколько бы это ни стоило, вот только управляющий… С ним надо торговаться.
Школа, но без ребят в одном месте; ребята — и без школьного помещения в другом, а главное — главное было в отсутствии центральной фигуры — настоящего школьного учителя. Илья Николаевич за семь дней пути уже освоился со всеми неудобствами дороги, привык к ним и замечать перестал; даже насморк, с каким выехал он еще из Нижнего, прошел от непрерывных, так хорошо согревавших его усилий в дороге, когда, помогая ямщику он подталкивал бричку или просто с трудом месил и месил ногами дорожную грязь. Ветер и дождь исхлестали ему щеки, он был необычно румян, и похудел, подтянулся, и трудности ничуть не испугали его. Он втягивался в предстоящее ему большое дело, зная, что уже ни за что не уйдет от него. И ему было ясно, с чего надо начать. Методика, звуковой способ, замечательные, бесспорные законы дидактики, о которых он уже столько читал и слышал, — все это так, но это не может зажить, стать действенным, открыть настоящую свою цену без живого носителя педагогической науки, без подготовленного учителя. Здание, оборудование, книги и пособия — все это так; обо всем этом надо начать хлопотать, — но люди, люди… Поставить школьное дело во вверенной ему большой губернии, чтоб это дело стало реальностью, можно лишь с помощью учителей, десятков учителей, для которых родным станет дело обучения крестьянских ребят. И он дал себе слово: как вернется в город, первым долгом начать подготовку учителей.
Паром медленно двигался по реке, а гребцы в раздувшихся от ветра рубахах мерно поднимали и опускали в воду длинные, похожие на лопаты, весла. Вот он подплыл к пристани, полетела на берег тяжелая цепь, и кто-то в один миг закрепил ее на причале. Возы один за другим стали съезжать с парома. Было заметно, что они приехали не в простой день недели, — Промзино шумело праздничной жизнью. Трехцветный флаг Российской империи болтался на шесте, как в праздник; у церкви толпился народ, слышалась разухабистая гармонь — было четвертое октября, день торжественного открытия в Промзине своей телеграфной станции.
«Станцию открывают — наверняка первым долгом есть для нее телеграфист, — невольно подумал Илья Николаевич. — Вот так надо открывать и школы».
Глава восемнадцатая
РОЖДЕНИЕ СЫНА
Тем временем Мария Александровна устраивалась на новом месте. Ей было трудно. Мужа она почти не видела; неделями он не ночевал дома. Кроме семьи Ауновских, ей не у кого было спросить совета, одолжиться необходимым. Соседей, близких, как в Нижнем, по общему коридору, здесь совершенно не было, весь склад жизни оказывался другим.
Стрелецкая улица, где Ауновский нанял для них флигель, одним своим концом выходила к небольшой Никольской церкви, нынче снесенной, а другим упиралась в Старый Венец, в тюрьму, чуть не за город. На этом дальнем конце, во дворе двухэтажного дома, и помещался нанятый флигелек.
После нижегородской «анфилады» он показался Марии Александровне тесен, она не могла даже распаковать всю мебель, и часть ее была снесена на чердак. Но хозяин уверял, что скоро освободятся верхи в большом доме, окнами на улицу.
На Старом Венце — крутом откосе над Волгой, занесенном желтыми мокрыми листьями, — уже веяло близкой зимой. Резким холодом несло от деревянных, тоже мокрых скамей. Внизу в дивном просторе вилась Волга, и небо над ней было исчеркано, словно мелом по синеве, густым пером облаков. Сюда по воскресеньям приходили мастеровые сорить семечками, грызть сладкие черные стручки и наигрывать на «тальянке». Тюрьма, огороженная стеной, выходила окнами прямо на Венец. Сквозь решетки постоянно налипали бледные жадные лица и выбритые головы. В будни, когда народу было меньше, приходилось посылать сюда на прогулку Аню и Сашу.