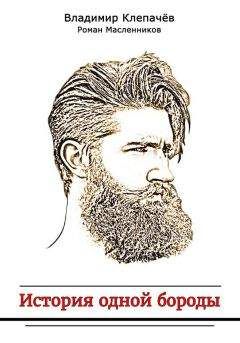Ахмедхан Абу-Бакар - Ожерелье для моей Серминаз
Все помнят, как два года назад, в один из весенних дней, когда на альпийских лугах цвели рододендроны, к нам приехали три именитых наших писателя, и хозяином этой встречи стал именно Даян-Дулдурум, а гостями были Сулейман из Дибгаши, большой жизнелюб и певец родного края, Муса из Кахиба, написавший к тому времени свой первый роман, где недвусмысленно утверждается мысль, что всякий зубоскал получит по зубам, потому что зайцы существуют для того, чтобы за ними охотились, и хитроумный Бадави из Кая, книги которого «Девушка, разбившая кувшин» и «Осел на машине» знает у нас каждый.
Они приехали из города на встречу с читателями и буквально покорили аульчан. Овации были такие, каких у нас удостоился разве лишь силач-борец Али-Казбек, и писателям поднесли дорогие подарки, а мой дядя показал им весь наш аул, который, по словам гостей, произвел на них неизгладимое впечатление.
Осмотр этот закончился в погребке знаменитого виночерпия Писаха, — да не иссякнет винная струя в его руках! — уж не знаю, дядя ли их зазвал или они сами его туда заманили.
Я же все время шел следом, не отводя глаз от волшебников, которые заставляют слова оживать на бумаге. Недаром в наших горах говорят, что завидовать можно лишь одному: умению написать слово «счастье» так, чтобы от него веяло настоящим счастьем, или умению нарисовать цветы так, чтобы от них пахло живыми цветами.
Посидев в погребке, гости вышли с веселой песней «Дала-лай!», и я проводил их до машины. Признаться, самолюбие мое было несколько задето: они даже не поинтересовались, а не пишу ли я, и не спросили, чем вообще занимаюсь! Одним словом, они меня просто не приметили. Меня это обидело, и потому я спустился обратно к Писаху.
Народу там сидело немного. Мухтар, сын Ливинда (простите, что я так часто вспоминаю о нем, но иной раз нам приходится встречаться и с теми, кого видеть не более приятно, чем человека, несущего кислородную подушку), и его друг с нижнего конца аула, Ника-Саид, стояли у стойки, а мой дядя Даян-Дулдурум, проводив писателей, вернулся за стойку и, не выпуская изо рта трубку, беседовал с Писахом.
Едва я появился, Мухтар и его друг заговорили о писателях. Я устроился за столом спиной к ним и старался не пропустить ни слова. Они и затеяли-то этот разговор, зная, что и я грешу сочинительством.
— Умение писать, — глубокомысленно изрек Мухтар, — есть всего лишь искусство водить читателя за нос, дорогой мой Ника-Саид!
— Как это так?
— Очень просто! Вот представь себе, что читатель — это охотник. А писатель — егерь. И когда читатель стоит у самого куста, под которым сидит заяц, писатель, вместо того чтобы указать на этого зайца, уводит читателя прочь.
— Но ведь читателю надоест пустая охота! — перебил говорившего Ника-Саид.
— Как ты не понимаешь! Главное — увлечь читателя тщетными поисками. Когда же писатель почувствовал, что читатель устал и готов бросить всю эту затею, он снова подводит его к тому же зайцу под кустом, но уже с другой стороны.
— И сколько же времени заяц будет сидеть под кустом? Ведь эта суетня мигом его спугнет! — заметил Ника.
— А ты разве не понял, чей это заяц?
— Как это — чей? Пока что ничей.
— Эх, ты! Пойми, зайца-то посадил туда писатель. Это его заяц, и он что захочет, то с ним и сделает.
— Ну и чем же это дело кончится? Писатель укажет на зайца, а читатель выстрелит и убьет его?
— Ни в коем случае. Обязательно промахнется.
— Да, но если писатель так водит за нос читателя, тот может промахнуться и не зайца, а самого автора уложить на месте!
— Это исключено! — убежденно ответил Мухтар, сын Ливинда.
— Почему же?
— Ружье-то не заряжено!
— А вдруг заряжено?
— Что ты, друг мой! Какой же писатель вложит в руки читателя заряженное ружье? Если бы это было возможно, разве посмел бы я утверждать, что умение писать — это не что иное, как умение водить за нос читателя! — многозначительно заключил Мухтар, сын Ливинда, и опорожнил свою кружку.
А в это самое время виночерпий Писах рассказывал моему дяде историю о том, как один американский фермер, закапав в его погребке вином свой светлый костюм, догадался, что из местного винограда можно делать не только вино и спирт, но и красители. Он вывез в Америку саженцы. Но виноград, который у нас всегда созревал красным, там получился белым...
Тут мой дядя, который, очевидно, одним ухом слушал одно, а вторым — другое, обратился к молодым:
— Простите, уважаемые, что я врываюсь в ваш высокоученый спор...
— Мы слушаем вас, почтенный Даян-Дулдурум, — вежливо ответил Ника-Саид, друг Мухтара, сына Ливинда.
— По-вашему, выходит, что писатель — просто хитрый врун?
— Что вы! Вы меня не так поняли, — возразил Мухтар.
— Ну, это я, конечно, грубовато выразился, прости, мой молодой друг. Но послушай, что я тебе скажу. Раньше, когда спичек у нас еще не было да и кремень с кресалом водился не в каждом доме, люди старались всеми силами сохранить огонь в очаге...
Тут я понял, что дядя мой решил наставить недостойного Мухтара на путь истины, потому и начал так издалека. В то время я и сам еще не до конца понимал, как глубоко заблуждается Мухтар.
А дядя после паузы продолжал:
— ...И когда случалось, что огонь все-таки угасал, человек обращался к соседям, чтобы одолжить пламя от их очага. Так вот, мне кажется, что писатель для нас — это человек, который вечно хранит в своем очаге огонь для других. Каждый может прийти к нему за огнем! Верно я говорю, Писах?
— Конечно, Даян-Дулдурум.
И я тоже подумал, что правильно сказал мой дядя. Недаром Мухтар, сын Ливинда, не знал, что ответить. В общем, из этого случая я заключил, что в глубине души мой дядя благоволит к писателям, а для меня это самое главное: я всегда мечтал написать нечто такое, что расшевелило бы умы моих друзей...
2Рассвет окрыляет меня, закат повергает в тревогу. Часы пролетают мимо то быстро и беззвучно, как падающие звезды, то тянутся, как баранья кишка в руках живодера. Но так или иначе, а каждый шаг и каждый вздох приближают меня к завершению еще не завершенного. И хотя говорят, что главное в жизни человека — иметь определенную цель, а достигнет он ее или не достигнет, зависит от множества побочных обстоятельств, — одно несомненно: как не было еще двух похожих начал, так не похожи и концы. Ни один человек еще не повторил другого, и, продолжая свои скитания, я нахожу утешение лишь в стремлении остаться самим собою.
Итак, я снова в пути и опять одинок. А как хотелось шагать по родной стране рядом с моим дядей!
Говорят: «Как пальцами ни маши, ни один не отвалится!» Так, мол, и родственники. А я все больше убеждаюсь, что в двадцатый век мой дядя вступил все же правой ногой. С левой, как известно, ступают сердито. И в том, что теперь я иду один, виноват только я сам, вернее, мой язык. Со мной произошло то же, что с одним сирагинцем. Повстречал он как-то всадника на окраине аула и пригласил его к себе в гости. А когда гость оказался во дворе и спросил, куда ему привязать коня, сирагинец, вспомнив о своей злой жене, сказал: «Привязывай сюда!» — и высунул язык. Примерно то же сделал и я. Наутро после беседы на гудекане в Губдене, когда Алхилав поведал о письме Пьерро Сориано, я сказал, что итальянец, несомненно, отблагодарит дядю ответным подарком...
— А ведь, пожалуй, ты прав, — задумчиво ответил дядя. — Ах, негодяй! — заметно оживился он. — А я-то думал, что у тебя в голове пустыня!
— В каждой пустыне есть оазисы! — пробормотал я, так как понял, что заронил в голову дяди опасную мысль. И хотел было добавить, что не каждый верблюд умеет отыскивать эти оазисы, но воздержался, ибо ясный день на лице дяди вот-вот готов был смениться черной бурей.
— Оазисы, говоришь... — проговорил мой дядя рассеянно, как болтают игроки в нарды, не вникая в суть произносимых слов. — Оазисы, значит... — Внезапно дух его воспрянул, и он заговорил уже вполне осмысленно: — Так вот, дорогой мой племянничек... — Тут я понял, что добра не будет: никогда он меня племянничком, да еще дорогим, не называл, — дальше ты можешь путешествовать и один...
— Как один? — вырвалось у меня.
— Очень просто. Я возвращаюсь в аул. Нельзя же оставить без ответа лестные слова итальянца. А вдруг он на самом деле расщедрится? Эта страна всегда славилась ювелирами. Вспомни Бенвенуто Челлини... В общем, прощай!
— До свидания... — растерянно произнес я.
— Да уж, наверно, свидимся, — без большой радости сказал мой дядя и тут же добавил: — Но смотри не позорь наш род перед аульчанами. А о Серминаз не беспокойся, — утешал он меня, — никуда она не денется.
Мне стало обидно, что дядя думает о моей избраннице так, будто она хуже других, но на мой вопрос, как понимать его слова, он небрежно ответил:
— А кто ее возьмет с таким хвостом? — Дядя хотел было повернуться на пятках, чтобы бежать в родной аул, но я удержал его за плечо.