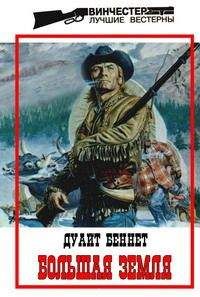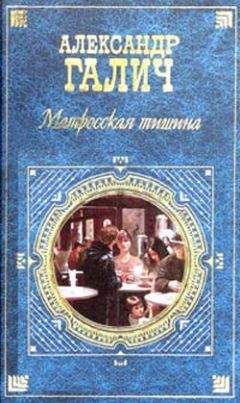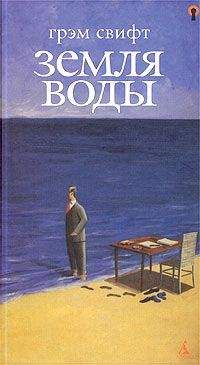Надежда Чертова - Большая земля
Но Ремнев не гневался; он опустил руку на острое колено Николая и задумчиво сказал:
— Может, не с того конца начали?
— Ты это о чем? — спросил Николай и облизнул сухие губы.
— Да все о том же, — смутно ответил Ремнев.
Дилиган, прижав к груди худые руки, сказал:
— Главное, товарищ Ремнев, большая у нас земля. На такую землю машина требуется, а машины-то у нас и нет. — Он подвинулся к Ремневу, испуганно тараща бесцветные глазки. — Видел я, понимаешь, машину, давно это было. Паровичок такой черный, похож на локомобиль, что на городской мельнице стоит. Ползет паровичок по пашне, а за ним аж четыре плуга…
Дилиган помолчал, потом боязливо спросил:
— Не веришь ты мне? Ей-богу, не вру!
Жалостная божба Дилигана внезапно развеселила Ремнева.
— Верю, дядя Иван, верю, — успокоительно сказал он. — Название машины — трактор, я в книжке читал. А знаешь, что про эту машину-трактор сказал товарищ Ленин?
Лицо Ремнева стало торжественным.
— Товарищ Ленин сказал: когда в стране будет сто тысяч тракторов, тогда крестьянство за комм унию встанет. Вот как!
— Сто тысяч! — пролепетал Дилиган и всплеснул руками.
Ремнев торжествующе оглядел стол, но тотчас же нахмурился, перехватив настороженный, подстерегающий взгляд Пронькина.
— Однако про гульбу-то вы забыли! — крикнул он и с притворной веселостью стукнул кулаком по столу. — Эй, бабы, что же вы песни не играете?
— Не вяжется песня-то! — громко в наступившей тишине произнес Пронькин.
Он поднялся, застегнул поддевку на все крючки и повелительно бросил жене:
— Пойдем, старуха, пора ко двору.
Параскева неохотно отодвинула чашку с пампушками, сыто икнула и суетливо стала вылезать.
Уже стоя на пороге, Пронькин притворно улыбнулся и повторил с потаенным торжеством:
— Не вяжется песня-то. Может, ты, Овдотьюшка, песню запоешь?
— Выдумает тоже! — закричала Ксюшка и хихикнула. — Она только по мертвым воет, а у нас не поминки.
Неловкая тишина возникла в комнате. Ремнев злобно скрипнул зубами. Он понял издевку Пронькина — это была издевка и над свадьбой, и над коммуной, и над плакальщицей Авдотьей. Боязливо, со стыдом и гневом он взглянул на Авдотью. Та ответила ему спокойным и ясным взглядом.
Как только закрылась дверь за Пронькиными, Авдотья тихо произнесла:
— Ну что ж, скажу и песню.
Она поднялась, смело вышла на середину горницы и остановилась, словно прислушиваясь.
За окнами мягко прошумела листва, и все смолкло. Авдотья видела и не видела обращенные к ней лица. Николай, беспокойно пошарив что-то на скатерти, опустил руки под стол. Дунька так и подалась вперед. Климентий нахохлился у окна. Дилиган беззвучно шевелил губами. В сероватом свете сумерек лица у всех казались печальными.
Авдотья низко поклонилась и, по давней привычке, скрестила руки под грудью.
— Здравствуйте, гости мои радошны! — певуче, с легкой дрожью в голосе сказала она. — Мертвым — вопли мои, живым — песня. Много печали дано человеку, а через печаль — и радость. Сердце без печали да без тайности — пустая грамота.
Она поклонилась еще раз и строго улыбнулась.
— Уж не взыщите, народ, племя сердешное, на песне моей, на вольных словах…
Как по весне-то разливной, да по красной вёснушке
Выходила я в степь да светлозарную,
А и кланялась в степи зелена́ трава,
Зелена́ трава до тычинушки.
Уж и колыхалася степь-матушка,
Словно синё море плескалося…
Авдотья начала запевку несмелой скороговоркой, будто пробуя голос, но уже слово «вёснушка» пропела протяжно и низко. Звук получился повелительный, как звон металла.
Ремнев поднял тяжелую голову, губы его по-детски открылись.
— Язык — телу якорь, — пробормотала Дарья, неотступно глядя на Авдотью.
От этих едва слышных слов тишина стала еще более строгой.
Авдотья шагнула вперед и уронила руки. Люди откликнулись ей, и она почувствовала знакомое сладкое забытье, от которого — она знала это с молодости — только и зачинается песня.
— Глуби морские на краю земли колышутся, — сказала она глуховатым и нежным голосом. — Деды наши морей не видывали, морской крутой волны не слыхивали. А по весне выйду я в степь: да вот оно, океан-море, крутая волна!
Она пристально взглянула в напряженное лицо Ремнева и повысила голос:
— Крестьянское наше счастье комом слежалося, с корнями в землю ушло. Солнце воспекает, колос золотом оденется, гроза в степи прогремит — все, бывало, тошно мне, горюше, все горько! А ныне — встану на безмежной земле, встану, мал человек, в прозорной степи, и нравно мне: взойдет зерно, проклюнет землю, взойдет и наша светлая радость! Жива душа моя, жива надёжа!
Авдотья вскинула голову, отягченную повойником, и прикрыла глаза.
Неподвижная листва за окном была теперь черной и казалась вылитой из тяжелого металла. Ночная темнота осела по углам комнаты. Худое лицо Авдотьи посуровело. Она открыла глаза, словно решив что-то про себя, и запела ровным и сильным голосом:
Как в большой степи
Жил мало́й мужик,
Жил мало́й мужик, небогатенький.
А и выходил мужик во широку степь,
Говорил мужик степи-матушке:
— Уж ты, степь моя, степь родимая,
Широко ты, степь, да просторно лежишь.
А пошто же, степь, так содеялось,
Захватили тебя злыдни злобные,
А мне негде, малому, ногой топнути,
А мне негде, малому, колос вырастить…
Первые же слова песни толкнули Маришу в самое сердце. Она судорожно выпрямилась, и по лицу ее сразу полились слезы. Это была легкая, давно выплаканная, но вечно разящая тоска по мертвому.
А и послушайте меня, люди добрые,
Что скажу вам про того печальника,
Как и думал он о большой земле,
О большой земле да о дружестве.
А и дали ему землю малую,
Землю малую — всего сажень,
А лежит он в черной постелюшке,
И шумят над ним ветры вольные,
Кипит-клонится седа полынь…
Авдотья насухо вытерла тонкие губы и строго сказала:
— Кузьме Иванычу честь воздать от всего крестьянского рода. Не ной его косточка во сырой земле! Малого он был росточку: недоля человека в землю вбивает, росту не дает. А мечтал человек высоко, видел далеко.
Ремнев охватил голову руками и тихо раскачивался, сам того не замечая. Песня подняла в нем острую, сладкую тревогу. «Вот сидят люди бедные, измученные, розные, — думал он, задумчиво улыбаясь, — а пройдет время, и будет этим людям воздана честь. Скажут: они первые вышли на большую землю…»
Дилиган, сидевший рядом с Ремневым, вдруг тяжело задышал.
Дарья надвинула платок и сгорбилась, стыдясь слез. Николай открыто, с гордостью смотрел на мать.
Ремнев, очнувшись, поднял голову. Люди грузно сидели в темноте, а Авдотья пела и говорила, протянув к ним руки. Теперь от ночных, колеблющихся теней она казалась преувеличенно высокой и плечистой.
Ремнев с удивлением думал о том, что вот стоит перед ним худая, иссеченная горем крестьянка, всю молодость свою она проплакала над покойниками и теперь также вот спела песню о мертвом. Но — странное дело — он чувствовал, что это была песня о жизни.
Несколько мгновений он слышал только повелительный голос Авдотьи, потом стал различать слова:
— Сохи наши вместе свилися — тому и быть. По капле дождь копится, реки поит, а реками море стоит. Мураши и те кучей живут. Рожь стеной стоит — не валится…
— Верно, Дуня! — закричал Степан и шумно вскочил. — Верно!
Огромный, черный, он непонятно размахивал кулаками и смеялся.
— Чего в темноте сидим? — хрипло сказала вдруг кузнечиха.
Все задвигались, будто выйдя из оцепенения. Едва различимые во тьме силуэты людей казались мохнатыми и сказочно большими.
Дунька вышла из-за стола и через минуту вернулась. Осторожно ступая, она внесла коптилку.
Люди сидели, тихо переговариваясь. Дуньке показалось, что они перекликаются, как ночные птицы.
— Хорошо в песне поется! — сказала Дарья, и Дунька расслышала боль в ее ломком и странном голосе.
Из дальнего угла внушительно и твердо отозвался Климентий:
— Пока солнце взойдет, роса очи выест!
Трезвый и как будто сердитый голос его напугал Дуньку. Коптилка дрогнула в ее руке. Она загородила огонек ладонью и тревожно спросила Авдотью:
— К чему это он, тетя Дуня? Страшно как!
Авдотья приняла от девушки коптилку и поставила на стол.
— А чего страшно? Рот, милая, не ворота, клином не запрешь, — спокойно возразила она, переводя пристальный взгляд на волосатое лицо Климентия. — Кривое дерево от ствола уходит. Сказано: в сук растет…
![Джек Вэнс - Умирающая Земля. Сб. [Умирающая Земля. Машина смерти. Глаза Верхнего мира. Большая планета.]](/uploads/posts/books/60504/60504.jpg)